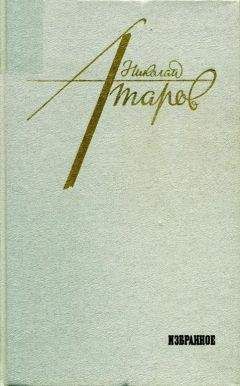Он здесь давным-давно, кажется ей, что еще до ее рождения. Ведь он у Олешникова рабочим начинал, потом уже кончил институт и вернулся. И его жена успела тут состариться, в ватных штанах всю жизнь проходила. Галя видела бугорок на краю поселка — там старинное кержацкое кладбище. Это особая участь проектировщиков — много лет копошатся, ползают зимой и летом, пока придут строители. Кем лучше быть — строителем или изыскателем? Раньше, в старые времена, строители сами вели изыскания, а теперь только критикуют. А попробуй в такой тайге, в горах, найди совершенную трассу… И Галя вспоминала, как Иван Егорыч однажды высказал ей и Дордже главную свою инженерскую идею. «Трасса, — говорил он, — есть функция всех мостов, тоннелей, станций, функция всех на ней сооружений…» Так и его жизнь есть функция всего, что ему нужно сделать. Он убежден в своей правоте, как крестьянин, который знает, что и когда делать в поле.
Вот он послал студентов связными, а рабочих обучил теодолитной съемке, потом отпустил их по домам — пусть уберутся на огородах. В походе он шел замыкающим, боялся, что москвичи могут отстать…
О спальном мешке он тогда со злостью говорил, а только много позже узнала Галя, что за этим у него было тяжелое воспоминание: ведь ясно, что Олешников и Сережка погибли отчасти из-за того, что ради легкости в пути не взяли с собой спальных мешков… А тут девчонка приехала, дочь Устиновича. А ему хуже всего — поездки в Москву, там он живет в общежитии министерства, иной раз три месяца, — хоть и не в спальном мешке, — и устает слоняться по экспертам и членам коллегий. И как он любит осень в тайге — он называет осень чернотропьем. Хорошо ведь, правда? Чернотропье, когда листва упала, и травы высохли, и легко прокладывать вспомогательный ход, легко вести съемку. И в то же время его огорчает осень — близится короткий световой день, все, что не сделано, надо будет доделывать, размещая народ по-зимнему, очищая площадки от снега, подогревая землю. И тут рабочие уходят — одни на огороды, это куда ни шло, а другие шалят: на охоту, на орех, на рыбалки… Он любит песню. Однажды приехали рабочие с рудников — артисты-любители. Среди них был парень с отличным голосом, пел под гитару прямо у костра. И Галя заметила, как подошел к костру Летягин, стал за спинами своих ребят, усталый, больной, жадно слушал незнакомую ему песню. И эта песня — она в Москве выключила бы радио — тут показалась ей такой близкой, понятной, хорошей… В это лето — Галя хорошо поняла — Летягин находился в особом возбуждении, он видел — началось наступление. Он был взбудоражен приходом машин, вторжением шума в тайгу. Строители ломали скалы, коверкали берега, лес рубили зря. Он защищал от них тайгу, а в то же время радовался. А когда что-то шло чересчур навалом, как с этой бешеной лавиной, он срывался, делался строг и жесток. И Галя вспоминала, как она сама попалась ему под руку, как он скомкал и порвал ее чертеж и крикнул: будете делать как надо!
Ну, а поставят ли ему памятник? Галя даже рассмеялась, шагая по таежной тропке. Как глупа эта едкая фраза дяди Рики, потом повторенная ею в постыдном ночном разговоре. Он никому не завидует, даже Олешникову.
Ведь он был не похож на Олешникова, а всю жизнь влюблен в его память. Галя многое теперь знала не только об Иване Егорыче, но и об Олешникове — тот был игрок, завязывал связи с женщинами и не ценил их, был гуляка, был окружен молодыми десятниками и техниками, и все были в него влюблены. Позже влюбилась в него дочь ссыльного наркома из Грузии. Галочка все теперь знала, как будто жизнь провела с ними. Олешников любил Ваню Летягина за ясный голос и слух, Ваня научился от грузинки петь их кавказские застольные песни, но Олешников больше всего ценил в исполнении Летягина «Шумел камыш». И однажды прыгнул через костер и расцеловал Летягина на глазах у всей партии. А когда Галя спросила Ивана Егорыча, какой был Олешников, он сказал неопределенно: «Какой? Обыкновенный. Шутник он был…» Поставят ли ему памятник — неизвестно. Но сам-то он привез бетонную ограду к месту гибели Олешникова, устроил в тайге его могилу и зафиксировал в проекте название станции Олешниково, очень боялся, что в министерстве не утвердят, даже, говорят, съездил в Москву, чтобы защитить название… А что значит памятник? Вот когда однажды подъехали они с Дорджей и Летягиным к дальнему зимовью, никого не оказалось в поселке, ни одной живой души, все на сенокосе, на другом берегу, и Галя увидела, как бабы среди дня оставили косьбу, плыли-спешили на душегубках, чтобы порадоваться, что пришел Иван Егорыч, а потом наварили ухи, пили спирт, — вот, собственно говоря, памятник! Иван Егорыч по результату живет… Галя вспомнила эти слова стряпухи и сейчас додумала за нее: а результат медлит сказаться, тут отец ошибается. Ох, как ошибается иногда отец…
Так размышляя, Галя вышла на скалистый бугор, откуда можно было, оглянувшись, увидеть пройденный ею путь и поселок. Построенный наскоро в тайге, с завалами неубранных корневищ, в этот осенний бессолнечный день поселок был похож на кладбище мамонтов… «Что ж, значит, я люблю?» — подумала Галя и рассмеялась.
35
Летягин сидел в палатке за чертежным столом. Он поеживался в ватнике, над головой качалась слабая желтая лампочка. Свет от движка помаргивал.
Галя заглянула в палатку.
— Возьмите, — деловито сказал Летягин и, не глядя, дал ей чертеж. — Это поперечники на том же пикете. Надо кончать.
Галя молча разглядывала чертеж.
— А потом пора вам и за отчет садиться. Скоро кончается ваша практика. Скоро в Москву.
— А правда, что зверовые собаки быстро старятся? — спросила Галя, глядя на спящую собаку. — Большая нагрузка на психику, да? Во сне медведей вспоминают, визжат по ночам?
— Спасибо. Я по ночам не визжу. — Он достал пачку сигарет.
— А вы бегаете по ночам в палатке! Не знаете времени, когда спать! И вообще горы вас старят, старят!
— Вот стану на лыжи — не догоните! — свирепо ответил Летягин.
Галя неожиданно и как-то странно рассмеялась.
— Хочу задать вам один вопрос. Как человек человеку…
— Вопросы задавать и я умею. Ну задавайте, — тихо сказал Летягин.
Галя прищуренно взглянула на него. Он видел, что она побледнела.
— Почему я должна расстаться с вами?.. Да вы не смейтесь, вам-то хорошо…
— Нет, почему же… Раз вы так напрямик… Вы знаете, что произошло между нами?
— Не знаю.
— Я ведь тоже не знаю.
— Тогда давайте вместе догадываться.
— Давайте. Только молча. Мне часто хочется молчать с вами. Мне хочется насмотреться на вас, прежде чем вы уедете… Ведь я уже подписал приказ.
— Догадались!
— Галочка, неужели ты не понимаешь? Не понимаешь? — переспросил он, заглядывая в ее слепые от слез глаза. — Ты поймешь меня когда-нибудь, когда будешь очень счастлива…
— А вы?
— Буду ли счастлив?.. — Он отошел к столу.
И снова продолжалась жизнь — будничная, тревожная — как ни в чем не бывало. В палатку вбежал Бимбиреков. Ему не хотелось бы встретить здесь практикантку, но дело, с каким он пришел, важнее этих тонкостей.
— Летчик радировал: завтра не полетит. Прогноз плохой: метель. А у него, говорит, семья, дети, — сообщил он.
— Попроси его взять меня. Я бездетный…
— Да, многодетные тяжелы на подъем, — заметил Бимбиреков и обернулся к Галочке. — А вы у отца единственная?
— А что?
— А то, что подводит он нас под монастырь. Еще денек проканителится — нам труба.
Галочка молча выбежала из палатки.
36
Мела метель. Галя ворочалась, стонала, бормотала в своем спальном мешке.
Ей снилось, будто она барахтается на крутом взгорке, где ветер наносит пушистый снег, и нет ни следа от утренней тропинки…
Ей снилось, будто Прасковья Саввишна гадает на сальных картах. Щербатый стол, на нем — короли пик, червей и бубен.
Ей снилось, будто, идя на лыжах, она наткнулась на сову, та ерошит перья и широко раскрывает глаза, потом жмурится, оставляя узкую щелку между веками. И Галя спрашивает сову: «Тебе, наверно, спать хочется? Мне самой до смерти хочется…»