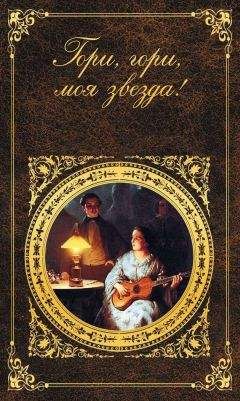МИХАИЛ МИХАЙЛОВ
(1829–1865)
324. «Ее он безмолвно, но страстно любил…»[333]
Ее он безмолвно, но страстно любил:
И редко и холодно с ней говорил;
А в сердце его все была лишь она,
И ум занимала об ней мысль одна…
Но детской и резвой своею душой
Любви не постигла она той святой. —
Он вечно был мрачен, в печаль погружен,
А взор ее ясный к другим обращен…
Но вот уж расстались они, — и далеко
Живет он, но любит ее, одинокой;
А те, что встречали взор девы живой,
Об ней позабыли холодной душой…
<1845>
325. Жена каторжного[334]
У тебя клеймо на лбу,
И позорно и черно;
Всем видна твоя вина
И не смоется оно.
У тебя клеймо на лбу;
Но везде пойду с тобой.
Кто тебя полюбит там,
Если будешь брошен мной?
Целый мир тебя отверг,
И грешна душа твоя.
Целый мир тебя отверг;
Но не я, не я, не я!
Если насмерть ранен тигр,
Рядом с ним лежит, любя,
И тигрица. — Милый мой,
Я тигрица у тебя!
1862–1865
326. «Снилась мне девушка: кудри как шелк…»[335]
Снилась мне девушка: кудри как шелк;
Кроткие, ясные очи…
С нею под липой просиживал я
Синие летние ночи.
Слово любви прерывала порой
Сладкая речь поцелуя…
Звезды вздыхали средь темных небес,
Словно ревниво тоскуя.
Я пробудился… Со мной никого…
Страшно мне в сумраке ночи;
Холодно, немо глядят на меня
Тусклые звездные очи.
<1858>
327. «Щекою к щеке ты моей приложись…»[336]
Щекою к щеке ты моей приложись:
Пускай наши слезы сольются!
И сердцем ты к сердцу мне крепче прижмись:
Одним огнем пусть зажгутся!
Когда же в то пламя польются рекой
Из глаз наших слезы, — я руки
Сомкну у тебя за спиной и умру,
Умру от блаженства и муки.
<1856>
328. «Объятый туманными снами…»[337]
Объятый туманными снами,
Глядел я на милый портрет,
И мне показалось: я вижу
В нем жизни таинственный след…
Как будто печальной улыбкой
Раскрылись немые уста.
И жемчугом слез оросилась
Любимых очей красота.
И сам я невольно заплакал —
Заплакал, грустя и любя…
Ах, страшно поверить!.. Неужто
Я точно утратил тебя?
1857–1858
329. «Как трепещет, отражаясь…»[338]
Как трепещет, отражаясь
В море плещущем, луна;
А сама идет по небу
И спокойна и ясна, —
Так и ты идешь, спокойна
И ясна, своим путем;
Но дрожит твой светлый образ
В сердце трепетном моем.
<1857>
Во Францию два гренадера
Из русского плена брели,
И оба душой приуныли,
Дойдя до Немецкой земли.
Придется им — слышат — увидеть
В позоре родную страну…
И храброе войско разбито,
И сам император в плену!
Печальные слушая вести,
Один из них вымолвил: «Брат!
Болит мое скорбное сердце,
И старые раны горят!»
Другой отвечает: «Товарищ!
И мне умереть бы пора;
Но дома жена, малолетки:
У них ни кола ни двора.
Да что мне? просить христа-ради
Пущу и детей и жену…
Иная на сердце забота:
В плену император! в плену!
Исполни завет мой: коль здесь я
Окончу солдатские дни,
Возьми мое тело, товарищ,
Во Францию! там схорони!
Ты орден на ленточке красной
Положишь на сердце мое,
И шпагой меня опояшешь,
И в руки мне вложишь ружье.
И смирно и чутко я буду
Лежать, как на страже, в гробу…
Заслышу я конское ржанье,
И пушечный гром, и трубу.
То Он над могилою едет!
Знамена победно шумят…
Тут выйдет к тебе, император,
Из гроба твой верный солдат!»
<1846>
НИКОЛАЙ НЕКРАСОВ
(1821–1877)
331. «Ты всегда хороша несравненно…»[340]
Ты всегда хороша несравненно,
Но когда я уныл и угрюм,
Оживляется так вдохновенно
Твой веселый, насмешливый ум;
Ты хохочешь так бойко и мило,
Так врагов моих глупых бранишь,
То, понурив головку уныло,
Так лукаво меня ты смешишь;
Так добра ты, скупая на ласки,
Поцалуй твой так полон огня,
И твои ненаглядные глазки
Так голубят и гладят меня, —
Что с тобой настоящее горе
Я разумно и кротко сношу
И вперед — в это темное море —
Без обычного страха гляжу…
1847
332. «Еду ли ночью по улице темной…»[341]
Еду ли ночью по улице темной,
Бури заслушаюсь в пасмурный день —
Друг беззащитный, больной и бездомный,
Вдруг предо мной промелькнет твоя тень!
Сердце сожмется мучительной думой.
С детства судьба невзлюбила тебя:
Беден и зол был отец твой угрюмый,
Замуж пошла ты — другого любя.
Муж тебе выпал недобрый на долю:
С бешеным нравом, с тяжелой рукой;
Не покорилась — ушла ты на волю,
Да не на радость сошлась и со мной…
Помнишь ли день, как, больной и голодный,
Я унывал, выбивался из сил?
В комнате нашей, пустой и холодной,
Пар от дыханья волнами ходил.
Помнишь ли труб заунывные звуки,
Брызги дождя, полусвет, полутьму?
Плакал твой сын, и холодные руки
Ты согревала дыханьем ему.
Он не смолкал — и пронзительно звонок
Был его крик… Становилось темней;
Вдоволь поплакал и умер ребенок…
Бедная! слез безрассудных не лей!
С горя да с голоду завтра мы оба
Так же глубоко и сладко заснем;
Купит хозяин, с проклятьем, три гроба —
Вместе свезут и положат рядком…
В разных углах мы сидели угрюмо.
Помню, была ты бледна и слаба,
Зрела в тебе сокровенная дума,
В сердце твоем совершалась борьба.
Я задремал. Ты ушла молчаливо,
Принарядившись, как будто к венцу,
И через час принесла торопливо
Гробик ребенку и ужин отцу.
Голод мучительный мы утолили,
В комнате темной зажгли огонек,
Сына одели и в гроб положили…
Случай нас выручил? Бог ли помог?
Ты не спешила печальным признаньем,
Я ничего не спросил,
Только мы оба глядели с рыданьем,
Только угрюм и озлоблен я был…
Где ты теперь? С нищетой горемычной
Злая тебя сокрушила борьба?
Или пошла ты дорогой обычной
И роковая свершится судьба?
Кто ж защитит тебя? Все без изъятья
Именем страшным тебя назовут,
Только во мне шевельнутся проклятья —
И бесполезно замрут!..
1847
Белый день занялся над столицей,
Сладко спит молодая жена,
Только труженик муж бледнолицый
Не ложится — ему не до сна!
Завтра Маше подруга покажет
Дорогой и красивый наряд…
Ничего ему Маша не скажет,
Только взглянет… убийственный взгляд!
В ней одной его жизни отрада,
Так пускай в нем не видит врага:
Два таких он ей купит наряда,
А столичная жизнь дорога!
Есть, конечно, прекрасное средство:
Под рукою казенный сундук;
Да испорчен он был с малолетства
Изученьем опасных наук.
Человек он был новой породы:
Исключительно честь понимал,
И безгрешные даже доходы
Называл воровством, либерал!
Лучше жить бы хотел он попроще,
Не франтить, не тянуться бы в свет, —
Да обидно покажется теще,
Да осудит богатый сосед!
Всё бы вздор… только с Машей не сладишь.
Не втолкуешь — глупа, молода!
Скажет: «Так за любовь мою платишь!»
Нет! упреки тошнее труда!
И кипит-поспевает работа,
И болит-надрывается грудь…
Наконец наступила суббота:
Вот и праздник — пора отдохнуть!
Он лелеет красавицу Машу,
Выпив полную чашу труда,
Наслаждения полную чашу
Жадно пьет… и он счастлив тогда!
Если дни его полны печали,
То минуты порой хороши,
Но и самая радость едва ли
Не вредна для усталой души.
Скоро в гроб его Маша уложит,
Проклянет свой сиротский удел,
И, бедняжка, ума не приложит.
Отчего он так скоро сгорел?
1851
334. «Давно — отвергнутый тобою…»[343]