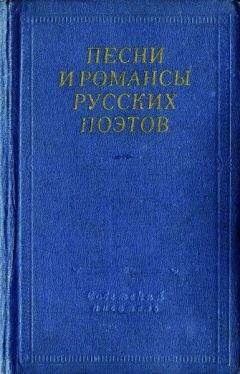Грозно и пенясь, катаются волны.
Сердится, гневом объятый, широкий Байкал.
Зги не видать. От сверкающей молньи
Бедный бродяга запрятался в страхе меж скал.
Чайки в смятенье и с криком несутся.
А ели как в страхе дрожат.
Грозно и пенясь катаются волны,
Сердится, гневом объятый, широкий Байкал.
Чудится в буре мне голос знакомый,
Будто мне что-то давнишнее хочет сказать.
Тень надвигается, бурей несомая,
Сколько уж лет он пощады не хочет мне дать!
Буря, несися! Бушуй, непогода!
Не вас я так крепко страшусь.
Тень надвигается, бурей несомая,
Гонится всюду за мной, лишь я не боюсь!
Вторая половина XIX века
* * *
Когда на Сибири займётся заря
И туман по тайге расстилается,
На этапном дворе слышен звон кандалов —
Это партия в путь собирается.
Каторжан всех считает фельдфебель седой,
По-военному ставит во взводы.
А с другой стороны собрались мужички
И котомки грузят на подводы.
Раздалось: «Марш вперёд!» — и опять поплелись
До вечерней зари каторжане.
Не видать им отрадных деньков впереди,
Кандалы грустно стонут в тумане.
Вторая половина XIX века
* * *
Глухой, неведомой тайгою,
Сибирской дальней стороной
Бежал бродяга с Сахалина
Звериной узкою тропой.
Шумит, бушует непогода,
Далёк, далек бродяге путь.
Укрой тайга его глухая, —
Бродяга хочет отдохнуть.
Там далеко за тёмным бором
Оставил родину свою,
Оставил мать свою родную,
Детей, любимую жену.
«Умру, в чужой земле зароют,
Заплачет маменька моя,
Жена найдёт себе другого,
А мать сыночка никогда».
Вторая половина XIX века
Мучит, терзает головушку бедную
Грохот машинных колёс;
Свет застилается в оченьках крупными
Каплями пота и слёз.
«Ах, да зачем же, зачем же вы льетеся,
Горькие слёзы, из глаз?
Делу — помеха; основа попортится!
Быть мне в ответе за вас!
Нитка порвалась в основе, канальская,
Эка, канальская снасть!
Ну, жизнь бесталанная! Сколько-то на душу
Примешь мучениев — страсть!
Кашель проклятый измаял всю грудь мою,
Тоже болят и бока,
Спинушка, ноженьки ноют, сердечные,
Стой целый день у станка!
Шибко измаялся нынче, — присел бы я,
Кабы надсмотрщик ушёл.
Эх, разболелися бедные ноженьки,
Словно вёрст сорок прошёл!..»
Взором туманным обводит от ткацкую,
Нет ли надсмотрщика тут;
Сел бы, — торчит окаянный надсмотрщик —
Вмиг оштрафует ведь плут!
Грохот машин, духота нестерпимая,
В воздухе клочья хлопка,
Маслом прогорклым воняет удушливо:
Да, жизнь ткача нелегка!
Стал он, бедняга, понуривши голову,
Тупо глядеть на станок.
Мечется, режет глаза наболевшие
Бешеный точно челнок.
«Как не завидовать главному мастеру,
Вишь, на окошке сидит!
Чай попивает да гладит бородушку,
Видно, душа не болит.
Ласков на вид, а взгляни-ка ты вечером;
Станешь работу сдавать,
Он и работу бранит и ругается,
Всё норовит браковать.
Так ведь и правит, чтоб меньше досталося
Нашему брату ткачу.
Эх, главный мастер, хозяин, надсмотрщики,
Жить ведь я тоже хочу!
Хвор становлюся; да что станешь делать-то,
Нам без работы не жить —
Дома жена, старики да ребятушки,
Подати надо платить.
Как-то жена нынче с домом справляется,
Что нам землица-то даст?
Мало землицы; плоха она, матушка,
Сущая, право, напасть!
Как сберегу, заработавши, денежки,
Стану домой посылать…
Сколько за месяц-то нынче придётся мне
Денег штрафных отдавать?
Эх, кабы меньше… О господи, господи!
Наш ты всевышний творец!
Долго ли будет житьё горемычное,
Скоро ль мученью конец?!»
Конец 1872 или начало 1873