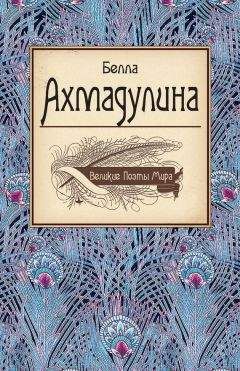Белла Ахмадулина
Составители Б. Мессерер, О. Трутников
© Ахмадулина Б. А., наследники, 2014
© Составление, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
* * *
«Как много у маленькой музыки этой…»
Как много у маленькой музыки этой
завистников: все так и ждут, чтоб ушла.
Теснит её сборища гомон несметный
и поедом ест приживалка нужда.
С ней в тяжбе о детях сокрытая му́ка —
виновной души неусыпная тень.
Ревнивая воля пугливого звука
дичится обобранных ею детей.
Звук хочет, чтоб вовсе был узок и скуден
сообщников круг: только стол и огонь
настольный. При нём и собака тоскует,
мешает, затылок суёт под ладонь.
Гнев маленькой музыки, загнанной в нети,
отлучки её бытию не простит.
Опасен свободно гуляющий в небе
упущенный и неприкаянный стих.
Но где все обидчики музыки этой,
поправшей величье житейских музы́к?
Наивный соперник её безответный,
укройся в укрытье, в изгои изыдь.
Для музыки этой возможных нашествий
возлюбленный путник пускается в путь.
Спроважен и малый ребёнок, нашедший
цветок, на который не смею взглянуть.
О путнике милом заплакать попробуй,
попробуй цветка у себя не отнять —
изведаешь маленькой музыки робкой
острастку, и некому будет пенять.
Чтоб музыке было являться удобней,
в чужом я себя заточила дому.
Я так одинока средь сирых угодий,
как будто не есмь, а мерещусь уму.
Черёмухе быстротекущей внимая,
особенно знаю, как жизнь не прочна.
Но маленькой музыке этого мало:
всех прочь прогнала, а сама не пришла.
Влечет меня старинный слог…
«Влечёт меня старинный слог…»
Есть обаянье в древней речи.
Она бывает наших слов
и современнее и резче.
Вскричать: «Полцарства за коня!» —
какая вспыльчивость и щедрость!
Но снизойдёт и на меня
последнего задора тщетность.
Когда-нибудь очнусь во мгле,
навеки проиграв сраженье,
и вот придёт на память мне
безумца древнего решенье.
О, что полцарства для меня!
Дитя, наученное веком,
возьму коня, отдам коня
за полмгновенья с человеком,
любимым мною. Бог с тобой,
о конь мой, конь мой, конь ретивый.
Я безвозмездно повод твой
ослаблю – и табун родимый
нагонишь ты, нагонишь там,
в степи пустой и порыжелой.
А мне наскучил тарарам
этих побед и поражений.
Мне жаль коня! Мне жаль любви!
И на манер средневековый
ложится под ноги мои
лишь след, оставленный подковой.
«В тот месяц май, в тот месяц мой…»
В тот месяц май, в тот месяц мой
во мне была такая лёгкость
и, расстилаясь над землей,
влекла меня погоды лётность.
Я так щедра была, щедра
в счастливом предвкушенье пенья,
и с легкомыслием щегла
я окунала в воздух перья.
Но, слава Богу, стал мой взор
и проницательней, и строже,
и каждый вздох и каждый взлет
обходится мне всё дороже.
И я причастна к тайнам дня.
Открыты мне его явленья.
Вокруг оглядываюсь я
с усмешкой старого еврея.
Я вижу, как грачи галдят,
над чёрным снегом нависая,
как скушно женщины глядят,
склонившиеся над вязаньем.
И где-то, в дудочку дудя,
не соблюдая клумб и грядок,
чужое бегает дитя
и нарушает их порядок.
Смущаюсь и робею пред листом
бумаги чистой.
Так стоит паломник
у входа в храм.
Пред девичьим лицом
так опытный потупится поклонник.
Как будто школьник, новую тетрадь
я озираю алчно и любовно,
чтобы потом пером ее терзать,
марая ради замысла любого.
Чистописанья сладостный урок
недолог. Перевёрнута страница.
Бумаге белой нанеся урон,
бесчинствует мой почерк и срамится.
Так в глубь тетради, словно в глубь лесов,
я безрассудно и навечно кану,
одна среди сияющих листов
неся свою ликующую кару.
О жест зимы ко мне,
холодный и прилежный.
Да, что-то есть в зиме
от медицины нежной.
Иначе как же вдруг
из темноты и муки
доверчивый недуг
к ней обращает руки?
О милая, колдуй,
заденет лоб мой снова
целебный поцелуй
колечка ледяного.
И всё сильней соблазн
встречать обман доверьем,
смотреть в глаза собак
и приникать к деревьям.
Прощать, как бы играть,
с разбега, с поворота,
и, завершив прощать,
простить ещё кого-то.
Сравняться с зимним днём,
с его пустым овалом,
и быть всегда при нём
его оттенком малым.
Свести себя на нет,
чтоб вызвать за стеною
не тень мою, а свет,
не заслонённый мною.
Ах, мало мне другой заботы,
обременяющей чело, —
мне маленькие самолёты
всё снятся, не пойму с чего.
Им всё равно, как сниться мне:
то, как птенцы, с моей ладони
они зерно берут, то в доме
живут, словно сверчки в стене.
Иль тычутся в меня они
носами глупыми: рыбёшка
так ходит возле ног ребёнка,
щекочет и смешит ступни.
Порой вкруг моего огня
они толкаются и слепнут,
читать мне не дают, и лепет
их крыльев трогает меня.
Ещё придумали: детьми
ко мне пришли и со слезами,
едва с моих колен слезали,
кричали: «На руки возьми!»
А то глаза открою: в ряд
все маленькие самолёты,
как маленькие Соломоны,
всё знают и вокруг сидят.
Прогонишь – снова тут как тут:
из темноты, из блеска ваксы,
кося белко́м, будто таксы,
тела их долгие плывут.
Что ж, он навек дарован мне —
сон жалостный, сон современный,
и в нём – ручной, несоразмерный
тот самолётик в глубине?
И всё же, отрезвев от сна,
иду я на аэродромы —
следить огромные те громы,
озвучившие времена.
Когда в преддверье высоты
всесильный действует пропеллер,
я думаю – ты всё проверил,
мой маленький? Не вырос ты.
Ты здесь огромным серебром
всех обманул – на самом деле
ты крошка, ты дитя, ты еле
заметен там, на голубом.
И вот мерцаем мы с тобой
на разных полюсах пространства.
Наверно, боязно расстаться
тебе со мной – такой большой?
Но там, куда ты вознесён,
во тьме всех позывных мелодий,
пускай мой добрый, странный сон
хранит тебя, о самолётик!
Сказка о дожде в нескольких эпизодах с диалогами и хором детей
1
Со мной с утра не расставался Дождь.
– О, отвяжись! – я говорила грубо.
Он отступал, но преданно и грустно
вновь шёл за мной, как маленькая дочь.
Дождь, как крыло, прирос к моей спине.
Его корила я:
– Стыдись, негодник!
К тебе в слезах взывает огородник!
Иди к цветам!
Что ты нашёл во мне?
Меж тем вокруг стоял суровый зной.
Дождь был со мной, забыв про всё на свете
Вокруг меня приплясывали дети,
как около машины поливной.
Я, с хитростью в душе, вошла в кафе
и спряталась за стол, укрытый нишей.
Дождь под окном пристроился, как нищир
и сквозь стекло желал пройти ко мне.
Я вышла. И была моя щека
наказана пощёчиною влаги,
но тут же Дождь, в печали и отваге,
омыл мне губы запахом щенка.
Я думаю, что вид мой стал смешон.
Сырым платком я шею обвязала.
Дождь на моём плече, как обезьяна, сидел.
И город этим был смущен.
Обрадованный слабостью моей,
Дождь детским пальцем щекотал мне ухо.
Сгущалась засуха. Всё было сухо.
И только я промокла до костей.
2
Но я была в тот дом приглашена,
где строго ждали моего привета,
где над янтарным озером паркета
всходила люстры чистая луна.
Я думала: что делать мне с Дождем?
Ведь он со мной расстаться не захочет.
Он наследит там. Он ковры замочит.
Да с ним меня вообще не пустят в дом.
Я толком объяснила: – Доброта
во мне сильна, но всё ж не безгранична.
Тебе ходить со мною неприлично. —
Дождь на меня смотрел, как сирота.
– Ну, черт с тобой, – решила я, – иди!
Какой любовью на меня ты пролит?
Ах, этот странный климат, будь он проклят! —
Прощенный Дождь запрыгал впереди.
3
Хозяин дома оказал мне честь,
которой я не стоила. Однако,
промокшая всей шкурой, как ондатра,
я у дверей звонила ровно в шесть.
Дождь, притаившись за моей спиной,
дышал в затылок жалко и щекотно.
Шаги – глазок – молчание – щеколда.
Я извинилась: – Этот Дождь со мной.
Позвольте, он побудет на крыльце?
Он слишком влажный, слишком удлиненный для комнат.
– Вот как? – молвил удивленный
хозяин, изменившийся в лице.
4
Признаться, я любила этот дом.
В нём свой балет всегда вершила лёгкость.
О, здесь углы не ушибают локоть,
здесь палец не порежется ножом.
Любила всё: как медленно хрустят
шелка хозяйки, затененной шарфом,
и, более всего, плененный шкафом —
мою царевну спящую – хрусталь.
Тот, в семь румянцев розовевший спектр,
в гробу стеклянном, мёртвый и прелестный.
Но я очнулась. Ритуал приветствий,
как опера, станцован был и спет.
5
Хозяйка дома, честно говоря,
меня бы не любила непременно,
но робость поступить несовременно
чуть-чуть мешала ей, что было зря.
– Как поживаете? (О блеск грозы,
смирённый в слабом горлышке гордячки!)
– Благодарю, – сказала я, – в горячке
я провалялась, как свинья в грязи.
(Со мной творилось что-то в этот раз.
Ведь я хотела, поклонившись слабо,
сказать:
– Живу хоть суетно, но славно,
тем более что снова вижу вас.)
Она произнесла:
– Я вас браню.
Помилуйте, такая одаренность!
Сквозь дождь! И расстояний отдаленность! —
Вскричали все:
– К огню ее, к огню!
– Когда-нибудь, во времени другом,
на площади, средь музыки и брани,
мы свидимся опять при барабане,
вскричите вы:
«В огонь ее, в огонь!»
За всё! За Дождь! За после! За тогда!
За чернокнижье двух зрачков чернейших,
за звуки с губ, как косточки черешен,
летящие без всякого труда!
Привет тебе! Нацель в меня прыжок.
Огонь, мой брат, мой пёс многоязыкий!
Лижи мне руки в нежности великой!
Ты – тоже Дождь! Как влажен твой ожог!
– Ваш несколько причудлив монолог, —
проговорил хозяин уязвленный. —
Но, впрочем, слава поросли зеленой!
Есть прелесть в поколенье молодом.
– Не слушайте меня! Ведь я в бреду! —
просила я. – Всё это Дождь наделал.
Да, это Дождь меня терзал, как демон.
Да, этот Дождь вовлек меня в беду.
И вдруг я увидала – там, в окне,
мой верный Дождь один стоял и плакал.
В моих глазах двумя слезами плавал
лишь след Дождя, оставшийся во мне.
6
Одна из гостий, протянув бокал,
туманная, как голубь над карнизом,
спросила с неприязнью и капризом:
– Скажите, правда, что ваш муж богат?
– Богат ли муж? Не знаю. Не вполне.
Но он богат. Ему легка работа.
Хотите знать один секрет? – Есть что-то
неизлечимо нищее во мне.
Его я научила колдовству —
во мне была такая откровенность, —
он разом обратит любую ценность
в круг на воде, в зверька или траву.
Я докажу вам! Дайте мне кольцо.
Спасем звезду из тесноты колечка! —
Она кольца мне не дала, конечно,
в недоуменье отстранив лицо.
– И, знаете, еще одна деталь —
меня влечет подохнуть под забором.
(Язык мой так и воспалялся вздором.
О, это Дождь твердил мне свой диктант.)
7
Всё, Дождь, тебе припомнится потом!
Другая гостья, голосом глубоким,
осведомилась:
– Одаренных Богом кто одаряет?
И каким путем?
Как погремушкой, мной гремел озноб:
– Приходит Бог, преласков и превесел,
немного старомоден, как профессор,
и милостью ваш осеняет лоб.
А далее – летите вверх иль вниз,
в кровь разбивая локти и коленки
о снег, о воздух, об углы Кваренги,
о простыни гостиниц и больниц.
Василия Блаженного, в зубцах,
тот острый купол помните? Представьте! —
всей кожей об него!
– Да вы присядьте! —
она меня одернула в сердцах.
8
Тем временем, для радости гостей,
творилось что-то новое, родное:
в гостиную впускали кружевное,
серебряное облако детей.
Хозяюшка, прости меня, я зла!
Я всё лгала, я поступала дурно!
В тебе, как на губах у стеклодува,
явился выдох чистого стекла.
Душой твоей насыщенный сосуд,
дитя твое, отлитое так нежно!
Как точен контур, обводящий нечто!
О том не знала я, не обессудь.
Хозяюшка, звериный гений твой
в отчаянье вседенном и всенощном
над детищем твоим, о, над сыночком
великой поникает головой.
Дождь мои губы звал к ее руке.
Я плакала:
– Прости меня! Прости же!
Глаза твои премудры и пречисты!
9
Тут хор детей возник невдалеке:
– Ах, так сложилось время —
смешинка нам важна!
У одного еврея —
хе-хе! – была жена.
Его жена корпела
над тягостным трудом,
чтоб выросла копейка
величиною с дом.
О, капелька металла,
созревшая, как плод!
Ты солнышком вставала,
украсив небосвод.
Всё это только шутка,
наш номер, наш привет.
Нас весело и жутко
растит двадцатый век.
Мы маленькие дети,
но мы растём во сне,
как маленькие деньги,
окрепшие в казне.
В лопатках – холод милый
и острия двух крыл.
Нам кожу алюминий,
как изморозь, покрыл.
Чтоб было жить не скушно,
нас трогает порой
искусствочко, искусство,
ребёночек чужой.
Родителей оплошность
искупим мы. Ура!
О, пошлость, ты не подлость,
ты лишь уют ума.
От боли и от гнева
ты нас спасешь потом.
Целуем, королева,
твой бархатный подол.
10
Лень, как болезнь, во мне смыкала круг.
Мое плечо вело чужую руку.
Я, как птенца, в ладони грела рюмку.
Попискивал её открытый клюв.
Хозяюшка, вы ощущали грусть
над мальчиком, заснувшим спозаранку,
в уста его, в ту алчущую ранку,
отравленную проливая грудь?
Вдруг в нём, как в перламутровом яйце,
спала пружина музыки согбенной?
Как радуга – в бутоне краски белой?
Как тайный мускул красоты – в лице?
Как в Сашеньке – непробужденный Блок?
Медведица, вы для какой забавы
в детёныше влюбленными зубами
выщелкивали Бога, словно блох?
11
Хозяйка налила мне коньяка:
– Вас лихорадит. Грейтесь у камина. —
Прощай, мой Дождь!
Как весело, как мило
принять мороз на кончик языка!
Как крепко пахнет розой от вина!
Вино, лишь ты ни в чём не виновато.
Во мне расщеплен атом винограда,
во мне горит двух разных роз война.
Вино мое, я твой заблудший князь,
привязанный к двум деревам склоненным.
Разъединяй! Не бойся же! Со звоном
меня со мной пусть разлучает казнь!
Я делаюсь всё больше, всё добрей!
Смотрите – я уже добра, как клоун,
вам в ноги опрокинутый поклоном!
Уж мне тесно средь окон и дверей!
О Господи, какая доброта!
Скорей! Жалеть до слез! Пасть на колени!
Я вас люблю! Застенчивость калеки
бледнит мне щеки и кривит уста.
Что сделать мне для вас хотя бы раз?
Обидьте! Не жалейте, обижая!
Вот кожа моя – голая, большая:
как холст для красок, чист простор для ран!
Я вас люблю без меры и стыда!
Как небеса, круглы мои объятья.
Мы из одной купели. Все мы братья.
Мой мальчик Дождь! Скорей иди сюда!
12
Прошел по спинам быстрый холодок.
В тиши раздался страшный крик хозяйки.
И ржавые, оранжевые знаки
вдруг выплыли на белый потолок.
И – хлынул Дождь! Его ловили в таз.
В него впивались веники и щётки.
Он вырывался. Он летел на щёки,
прозрачной слепотой вставал у глаз.
Отплясывал нечаянный канкан.
Звенел, играя с хрусталем воскресшим.
Но дом над ним уж замыкал свой скрежет,
как мышцы обрывающий капкан.
Дождь с выраженьем ласки и тоски,
паркет марая, полз ко мне на брюхе.
В него мужчины, подымая брюки,
примерившись, вбивали каблуки.
Его скрутили тряпкой половой
и выжимали, брезгуя, в уборной.
Гортанью, вдруг охрипшей и убогой,
кричала я:
– Не трогайте! Он мой!
Дождь был живой, как зверь или дитя.
О, вашим детям жить в беде и муке!
Слепые, тайн не знающие руки,
зачем вы окунули в кровь Дождя?
Хозяин дома прошептал:
– Учти,
еще ответишь ты за эту встречу! —
Я засмеялась:
– Знаю, что отвечу.
Вы безобразны. Дайте мне пройти.
13
Страшил прохожих вид моей беды.
Я говорила:
– Ничего. Оставьте.
Пройдет и это. —
На сухом асфальте
я целовала пятнышко воды.
Земли перекалялась нагота,
и горизонт вкруг города был розов.
Повергнутое в страх Бюро прогнозов
осадков не сулило никогда.
–
Москва«Случилось так, что двадцати семи…»