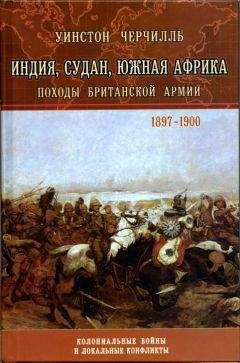Владимир Набоков
Трагедия господина Морна
Комната. Шторы опущены. Пылает камин. В кресле у огня, закутанный в пятнистый плед, дремлет Тременс. Он тяжело просыпается.
ТРЕМЕНС:
Сон, лихорадка{1}, сон; глухие смены
двух часовых, стоящих у ворот
моей бессильной жизни…
На стенах
цветочные узоры образуют
насмешливые лица; не огнем,
а холодом змеиным на меня
шипит камин горящий… Сердце, сердце,
заполыхай! Изыди, змий озноба!..
Бессилен я… Но, сердце, как хотел бы
я передать мой трепетный недуг
столице этой стройной и беспечной,
чтоб площадь Королевская потела,
пылала бы, как вот мое чело;
чтоб холодели улицы босые,
чтоб сотрясались в воздухе свистящем
высокие дома, сады, статуи
на перекрестках, пристани, суда
на судорожной влаге!..
(Зовет.)
Входит Элла, нарядно причесанная, но в халатике.
ТРЕМЕНС:
Портвейна дай, и склянку, ту, направо,
с зеленым ярлыком…
Так что же, едешь
плясать?
ЭЛЛА:
(открывает графин)
ТРЕМЕНС:
ЭЛЛА:
ТРЕМЕНС:
ЭЛЛА:
(садится на ручку кресла)
Не знаю… Странно это все…
Совсем не так, как в песнях… Этой ночью
мне чудилось: я — новый, белый мостик,
сосновый, кажется, в слезах смолы, —
легко так перекинутый над бездной…
И вот я жду. Но — не шагов пугливых,
нет, — жаждал мостик сладко поддаваться,
мучительно хрустеть — под грубым громом
слепых копыт… Ждала — и вот, внезапно,
увидела: ко мне, ко мне, — пылая,
рыдая, — мчится облик Минотавра,
с широкой грудью и с лицом Клияна!
Блаженно поддалась я, — и проснулась…
ТРЕМЕНС:
Я понял, Элла… Что же, мне приятно:
то кровь моя воскликнула в тебе, —
кровь жадная…
ЭЛЛА:
(готовит лекарство)
Кап… кап… пять, шесть… кап… семь… Довольно?
ТРЕМЕНС:
Да. Одевайся, поезжай… уж время…
Стой, — помешай в камине…
ЭЛЛА:
Угли, угли,
румяные сердечки… Чур — гореть!
(Смотрится в зеркало.)
Я хорошо причесана? А платье
надену газовое, золотое.
Так я пойду…
(Пошла, остановилась.)
…Ах, мне Клиян намедни
стихи принес; он так смешно поет
свои стихи! Чуть раздувая ноздри,
прикрыв глаза, — вот так, смотри, ладонью
поглаживая воздух, как собачку…
(Смеясь, уходит.)
ТРЕМЕНС:
Кровь жадная… А мать ее была
доверчивая, нежная такая;
да, нежная и цепкая, как цветень,
летящий по ветру — ко мне на грудь…
Прочь, солнечный пушок!.. Спасибо, смерть,
что от меня взяла ты эту нежность:
свободен я, свободен и безумен…
Еще не раз, услужливая смерть,
столкуемся… О, я тебя пошлю
вон в эту ночь, в те огненные окна
над темными сугробами — в дома,
где пляшет, вьется жизнь… Но надо ждать…
Еще не время… надо ждать.
Задремал было. Стук в дверь.
ТРЕМЕНС:
(встрепенувшись)
СЛУГА:
Там, сударь, человек какой-то — темный,
оборванный — вас хочет видеть…
ТРЕМЕНС:
СЛУГА:
ТРЕМЕНС:
Слуга вышел. В открытую дверь вошел человек, остановился на пороге.
ТРЕМЕНС:
ЧЕЛОВЕК:
(медленно усмехнувшись)
…и на плечах все тот же пестрый плед.
ТРЕМЕНС:
(всматривается)
Позвольте… Муть в глазах… но — узнаю,
но узнаю… Да, точно… Ты, ты? Ганус?
ГАНУС:
Не ожидал? Мой друг, мой вождь, мой Тременс,
не ожидал?..
ТРЕМЕНС:
ГАНУС:
Четыре года? Каменные глыбы —
не годы! Камни, каторга, тоска —
и вот — неописуемое бегство!..
Скажи мне, что — жена моя — Мидия…
ТРЕМЕНС:
Жива, жива… Да, узнаю я друга —
все тот же Ганус, легкий, как огонь,
все та же страстность в речи и в движеньях…
Так ты бежал? А что же… остальные?
ГАНУС:
Я вырвался — они еще томятся…
Я, знаешь ли, к тебе, как ветер, — сразу,
еще не побывал я дома… Значит,
ты говоришь, Мидия…
ТРЕМЕНС:
Слушай, Ганус,
мне нужно объяснить тебе… Ведь странно,
что главный вождь мятежников… Нет, нет,
не прерывай! Ведь это, правда, странно,
что смею я на воле быть, когда
я знаю, что страдают в черной ссылке
мои друзья? Ведь я живу, как прежде;
меня молва не именует; я
все тот же вождь извилистый и тайный…
Но, право же, я сделал все, чтоб с вами
гореть в аду: когда вас всех схватили,
я, неподкупный, написал донос
на Тременса… Прошло два дня; на третий
мне был ответ. Какой? А вот послушай:
был, помню, вечер ветреный и тусклый.
Свет зажигать мне было лень. Смеркалось.
Я тут сидел и зыблился в ознобе,
как отраженье в проруби. Из школы
еще не возвращалась Элла. Вдруг — стучат,
и входит человек: лица не видно
в потемках, голос — глуховатый, тоже
как бы подернут темнотой… Ты, Ганус,
не слушаешь!..
ГАНУС:
Мой друг, мой добрый друг,
ты мне потом расскажешь. Я взволнован,
я не слежу. Мне хочется забыть,
забыть все это: дым бесед мятежных,
ночные подворотни… Посоветуй,
что делать мне: идти ль сейчас к Мидии,
иль подождать? Ах, не сердись! не надо!..
Ты — продолжай…
ТРЕМЕНС:
Пойми же, Ганус, должен
я объяснить! Есть вещи поважнее
земной любви…
ГАНУС:
…так этот незнакомец… —
рассказывай…
ТРЕМЕНС:
…был очень странен. Тихо
он подошел: «Король письмо прочел
и за него благодарит», — сказал он,
перчатку сняв, и, кажется, улыбка
скользнула по туманному лицу.
«Да… — продолжал посланец, театрально
перчаткою похлопывая, — вы —
крамольник умный, а король карает
одних глупцов; отсюда вывод, вызов:
гуляй, магнит, и собирай, магнит,
рассеянные иглы душ мятежных,
а соберешь — подчистим, и опять —
гуляй, блистай, притягивай…» Ты, Ганус,
не слушаешь…
ГАНУС:
Напротив, друг, напротив…
Что было дальше?
ТРЕМЕНС:
Ничего. Он вышел,
спокойно поклонившись… Долго я
глядел на дверь. С тех пор бешусь я в страстном
бездействии… С тех пор я жду; упорно
жду промаха от напряженной власти,
чтоб ринуться… Четыре года жду.
Мне снятся сны громадные… Послушай,
срок близится! Послушай, сталь живая,
пристанешь ли опять ко мне?..
ГАНУС:
Не знаю…
Не думаю… Я, видишь ли… Но, Тременс,
ты не сказал мне про мою Мидию!
Что делает она?..
ТРЕМЕНС:
ГАНУС:
Как смеешь, Тременс! Я отвык, признаться,
от твоего кощунственного слога, —
и я не допущу…
В дверях незаметно появилась Элла.