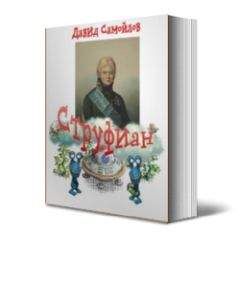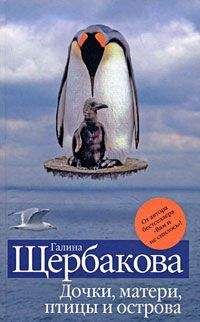Давид Самойлов
«ЦЫГАНОВЫ»
поэма
Конь взвился на дыбы,
но Цыганов
Его сдержал, повиснув на узде.
Огромный конь, коричневато-красный,
Смирясь, ярился под рукою властной,
Мохнатоногий, густогривый конь
Сердился и готов был взвиться снова.
Хозяин хохотал. А Цыганова,
Хозяйка, полногруда и крепка,
Смеялась белозубо с расписного
Крыльца, держа ягнёнка-сосунка.
А Цыганов уже надел хомут
И жеребца поставил меж оглобель.
И сам он был курчав, силён, огромен.
Всё было мощно и огромно тут!
И солнце, и телега, и петух,
И посреди двора дубовый комель.
И Цыганов поехал со двора.
А Цыганова собрала дрова
И в дом пошла.
И сразу опустело,
Когда исчезли три могучих тела —
Её, и Цыганова, и коня.
Один петух, свой гребень накреня,
Глядел вослед коню и Цыганову.
Потом хозяйка погнала корову.
И это было лишь начало дня.
— Встречай, хозяйка! — крикнул Цыганов.
Поздравствовались. Сели.
Стол тесовый,
Покрытый белой скатертью, готов
Был распластаться перед Цыгановой.
В мгновенье ока юный огурец
Из миски глянул, словно лягушонок.
И помидор, покинувший бочонок,
Немедля выпить требовал, подлец.
И яблоко мочёное лоснилось
И тоже стать закускою просилось.
Тугим пером вострился лук зелёный.
А рядом царь закуски — груздь солёный
С тарелки беззаветно вопиял
И требовал, чтоб не было отсрочки.
Графин был старомодного литья
И был наполнен желтизной питья,
Настоянного на нежнейшей почке
Смородинной, а также на листочке
И на душистой травке. Он сиял.
При сём ждала прохладная капуста,
И в ней располагался безыскусно
Морковки сладкой розовый торец.
На круглом блюде весело лежали
Ржаного хлеба тёплые пласты.
И полотенец свежие холсты
Узором взор и сердце ублажали.
— Хозяйка, выпей! — крикнул Цыганов.
Он туговат был на ухо.
Хмельного
Он налил три стакана. Цыганова
В персты сосуд гранёный приняла
И выпила. Тут посреди стола
Вознёсся борщ. И был разлит по мискам.
Поверхность благородного борща
Переливалась тяжко, как парча,
Мешая красный отблеск с золотистым.
Картошка плавилась в сковороде.
Вновь жёлтым самоцветом три стакана
Наполнились. Шипучий квас из жбана
Излился с потным пенистым дымком.
Яичница, как восьмиглазый филин,
Серчала в сале. Стол был изобилен.
А тут — блины! С гречишным же блином
Шутить не стоит! Выпить под него —
Святое дело. Так и порешили.
И повторили вскоре. Не спешили,
Однако время шло. Чтоб подымить,
Окно открыли. Двое пацанов
Соседских с боем бились на кулачки.
По яблоку им кинул Цыганов,
Прицыкнув: — Нате вот и не варначьте! —
Тут наконец хозяйка рядом с мужем
Присела. Байки слушала она
Мужские — кто где ранен, где контужен.
Но снова два соседских пацана
Затеяли возню…
Уже смеркалось.
Тележным осям осень откликалась.
Но в каждом звуке зрела тишина.
Гость чокнулся с хозяйкой: — Будь здорова!
— Будь! — крикнул Цыганов.
А Цыганова
Печально отвернулась от окна.
Ребёнка нёс отец. А Цыганова
Была ещё бледна и рядом шла.
Ребёнок в стёганое одеяльце
Из голубого шёлка был одет,
Перепоясан лентой с пышным бантом.
И чуть распахивался, обнаружив
Тугую пену белоснежных кружев.
Оркестра не хватало. Музыкантом
Был только ветер — полевой флейтист.
Он в поле разливал свой ровный свист.
Так Цыганов, казавшийся гигантом
Над низким горизонтом, шёл с женой
И нёс ребёнка позднею весной.
На полевой дороге колеи
Ещё хранили форму ранней грязи.
Но было сухо. Рыжие слои
Напоминали про однообразье
Распутицы.
Пот лил ручьём со лба
Отцовского, когда взошли на взлобок.
Там перед ними свежий куст был робок.
Но пел. И поле пело, как труба.
И вся округа перед Цыгановым
Каким-то звуком наполнялась новым
И новым цветом для него цвела.
Он сына нёс в атласном одеяльце,
И Цыганова каменные пальцы
Природа вся разжать бы не могла.
Он нёс младенца в голубых обновах,
Как продолженье старых Цыгановых
И как начало Цыгановых новых,
Он нёс начало будущих веков,
Родоначальника полубогов.
Среди пелёнок, кружев, одеялец
Лежал их дома новый постоялец.
И Цыганов глядел при этом вниз,
Чтоб незаметно было, как лились
Из глаз его безудержные слёзы…
Остановились около берёзы.
На валуне присели отдохнуть.
И Цыганова отворила грудь.
Тут он увидел сына. Он не знал,
Что так младенец немощен и мал.
Он только понял, что за это тело
Он всё бы отдал, чем душа владела,
И то свершил, чего не совершал.
Но вдруг ребёнок сморщил свой носишко
И раз чихнул.
— Чихать умеет, вишь-кo, —
Промолвил с уважением отец.
— А как же звать его? Серёжка, Мишка? —
«И впрямь, как звать его? — подумал он. —
И почему же каждое созданье
Не знает, каково его названье.
За чем на свете тысячи имён?
И странно, что приобретаешь имя,
Которое придумано другими.
А сам бы как назвал себя?»
Трудна
Была та мысль его про имена.
Он бросил думать и сказал:
— Жена,
Пусть сын наш будет Павел. —
И она,
Чуть улыбнувшись, отвечала: — Ладно.
Они всегда ведь с мужем жили ладно.
И вот они пришли домой. И в люльку
Плетёную ребёнка положили,
Чтоб он там спал покуда день и ночь,
Пока пробрезжит свет в его глазах
И первый смысл его коснётся слуха.
А впрямь ли так он нем, и слеп, и глух?
Молчал отец. Жена дитя качала.
И это тоже было лишь начало.
С женой дрова пилили. А колоть
Он сам любил. Но тут нужна не сила,
А вольный взмах. Чтобы заголосила
Берёзы многозвончатая плоть.
Воскресный день. Сентябрьский холодок.
Достал колун. Пиджак с себя совлек.
Приладился. Попробовал. За хатой
Тугое эхо ёкнуло: oк-oк!
И начал. Вздох и взмах, и зык, и звон.
Мужского пота запах грубоватый.
Сухих поленьев сельский ксилофон.
Поленец для растопки детский всхлип.
И полного полена вскрик разбойный.
И этим звукам был равновелик
Двукратный отзвук за речною поймой.
А Цыганов, который туговат
Был на ухо, любил, чтоб звук был полон.
Он так был рад, как будто произвёл он
И молнию, и грозовой раскат.
Он знал, что в колке дров нужна не сила,
А вздох и взмах, чтобы тебя взносило
К деревьям — густолистым облакам,
К их переменчивым и вздутым кронам,
К деревьям — облакам тёмно-зелёным,
К их шумным и могучим сквознякам.
Он также знал: во время колки дров
Под вздох и взмах как будто думать легче.
Был истым тугодумом Цыганов,
И мысль не споро прилегала к речи.
Какой-нибудь бродячий анекдот
Ворочался на дне его рассудка.
Простейшего сюжета поворот
Мешал ему понять, что это шутка.
«У Карапета тёща померла…»
(Как вроде у меня; а ведь была
Хорошая старуха.) «Он с поминок
Идёт…»
(У бабы-то была печаль.
Иду, а вечер жёлтый, словно чай.
А в небе — галки стаями чаинок.)
«И вдруг ему на голову — кирпич.»
Он говорит: «Она уже на небе!»)
(Однако это вроде наш Кузьмич,
Да только на того свалились слеги,
Когда у тёщи в пасху был хмелён…)
Тут Цыганов захохотал. И клён,
Который возрастал вблизи сарая,
Шарахнулся. и листьев легион взлетел.
И встрепенулась птичья стая.
И были смех, и вдох, и зык, и звон.
— Что увидал? — сходя с крыльца резного,
Хозяина спросила Цыганова.
— Да анекдот услышал однова.
Давай, хозяйка, складывать дрова.
Под утро снился Цыганову конь.
Приснился Орлик. И его купанье.
И круп коня, и грива, и дыханье,
И фырканье — всё было полыханье.
Конь вынесся на берег и в огонь
Зари помчался, вырвавшись из рук
Хозяина. Навстречу два огня
Друг к другу мчались — солнца и коня.
И Цыганов проснулся тяжело.
Открыл глаза. Ему в груди пекло.
Он выпил квасу, но не отлегло.