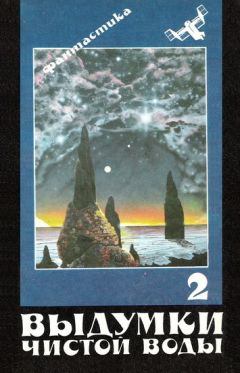Найман Анатолий Генрихович. Скажи огонь
«Колка орехов пестиком в ступке, верно…»
Колка орехов пестиком в ступке, верно?
Верно: колка орехов пестиком в ступке.
Сколько за день добывает ядрышек ферма?
Фокус не в ядрышках, а в осколках скорлупки.
Высмотреть каждый, отсеять, отвеять, отбросить.
Бизнес семейный, все на учете руки.
Мы с женой старики, и у дочери уже проседь.
Зять деловой, жаль, плохо видит. Лодыри внуки.
В бытность мою инженеришкой техотдела,
помню, начальник дал заложить мне нормы
цикла пропитки — дохлое, тухлое дело,
но из пустот таблицы скрёб я рубли прокорма.
Позже в бытность почтовой лошадью просвещенья
версты перемолол чужеземных виршей.
В пик перестройки план набросал харчевни,
а в нулевые на год спознался с биржей.
И вдруг — валютные курсы, стихи, орехи,
едкие смолы, сами подвертываясь и сами
сматываясь, стали выстраиваться как вехи
чего непонятно, но не сведенья концов с концами.
Может, так надо? Ведь вдуматься, муха в джеме —
гимн наслажденью, удаче, прообраз славы
в склепе янтарном, а суета, униженье —
просто придирки жизни, к тому же слабы.
«Сопрано дикое и слабое…»
Сопрано дикое и слабое,
и сборный катится концерт
к финалу, к пику, к танцу с саблями.
Искусство густо, но без черт.
Потерт и я. Но место знаемо,
годов прошло всего полста.
Вокал. И март точь-в-точь, ни дна ему,
ни крыш: капель и маета.
И та, что пела в безголосице
земли, одну в виду держа
преджизнь, как горсть огня уносится,
как Шуберта ручей,
душа.
«Плешка с отбросами вроде как пикника…»
Плешка с отбросами вроде как пикника.
Некто в хитоне, кафтане, бархате, рубище,
встав на нее, произносит: «Теперь века
покатят». Момент называется «будущее».
Нас от него тошнит, не хотим, нет сил
рыться в свалке повторов. Нас не касается,
вновь размозжит ли младенцам, как размозжил
головы прежним, камень, прибежище заяцем.
Я не про смерть — верхнюю старика
полку в почтовом из Быдогощей на Пудожье, —
я про века. Река Века. Берега
вытоптаны. И это — будущее.
Сносит аж к вербной масленую
в бармах снегов и звезд
блеск возводит напраслину
на молитву и пост
млечных галактик и солнечной
труппы гастрольный год
иллюминирует сонмище
грешных наших широт
Катит коньковым гонщица
по насыпной лыжне
стужа никак не кончится
лютость мила весне
мартовские и апрельские
горностаи слепя
яро кроят имперские
бал и парад из себя
Но! вхолостую палимому
дню по чуть-чуть свечи
вспышку роняет как примулу
и как травинки лучи
ночь ли, земля — неведомо
только времен и планет
ход не чета победному
свету. Все видят — свет!
«В мае приедешь в деревню — парад могил…»
В мае приедешь в деревню — парад могил,
нынче вот Вити-хромца и метиса Сашки,
точечно ангел зимой избы бомбил,
память поют пташки, лягушки, букашки.
Здесь между жив и нет простыня без шва.
К звездам с земли скоростью путь не выгнут.
«Дал да и взял», а не «быть не быть» — дважды два
здешних эйнштейнов. Гаснут — да. Но не гибнут.
Минимум элементов — леса, небеса.
Водка «сезам-впусти» — кто к ней в грот не лазал?
Царский диаметр. Средняя полоса.
Ложь не жжет, совесть не гложет — простенький пазл.
Дал да и взял. Остальное слова, слова.
Бог давно не молитва уже, а мантра.
В землю с земли. А навстречу шекспир-трава:
Виктора мята, кислица Александра.
только крестьянин знает как расчесать
шкуру земли как сполоснуть ей тельце
старца, младенца: сам он да сын да зять
его — землепашца, землевладельца
кверху диаметром полумесяц-река
сносит в колоду карты скрывая козырь
как сквозь песочницу дети ладошкой совка
как попрошаек беззубая челюсть-бульдозер
тибр выгрызает свой торс — свитки афиш
кожицу лижут снутри и лощат — пищей
собственной плоти кормят гефелте-фиш
суша однако всегда остается нищей
тигр или — ица выпрастывает язык
желтый от несваренья лесбийский в русло —
не было здесь никого когда мчался дик
дух сотворажась — то-то сейчас и грустно
при карбонариях варварах цезарях при
комми с лицом человека и мафиозо
в чересполосице банковского маркетри
берег галдит о герое — клизме навоза
город и мир не грамматика не мораль
басни сложенной умниками под сенью
архитектуры а ключ под ноги и вдаль
сколько есть сил выплескивающий землю
все сделано а главное все сказано
не рвись в парадное погнул скобарь ключи
аммиаком и бытовыми газами
обдолбанный молчи
в сквер заберись сложись скрой шрамы родинки
вползи в студеные кусты
задача чтоб к весне штурмовики эротики
не опознали смажь с себя черты
швырять как листья с крон халдеям сотенки
стиль молодежи золотой
не сироты как ты
к аллейному в жару прильни стволу ли к стогу ли
газонному забудь свои дела свои
года а нет спиной сядь к цоколю
лубянской выпечки прижмись к посту гаи
в конце концов у памятника гоголю
шалаш скрои
былое — ковш метро где номеров радушие
чуланной цепью прошивает крепь
былое похоть
кохать заслано в грядущее
оно же степь
там вездеход чье на нуле горючее
погрохатывая побрякивая
переваливается за порог
предрассветная шейка раковая
по узлам железных дорог
серебриста стезя ребристая
и сама себе параллель
куда катишь
свистками слистывая
первый метр? чернильную цель?
твоя родина где? где нешуточный
перекур в снегу тупика?
что за груз скинут в ров промежуточный?
твой плацкартник — кто не зэка?
но ударных и струн симфония —
также ты — и Моне в окне
и гаремных трав благовоние
и сквозняк и лязг — также мне
хор туннеля душит нас яростью
скорбью поит моста монолог
как античная сцена
на ярусы
видов —
свесившая потолок
Сознанье родится не певчим но обреченным
на речь а она может стать певучей
подобно ручью когда журчаньем струи
сквозь демосфенову гальку он вымывает нечисть
мыслей нюансов нонсенсов умозаключений.
Сознанье прислушивается к певучести
и обретает певчесть.
Кровь — подбирает оно слова а слова напев —
кровь норовит играть под кожей небес
ладонь востока явственно розовоперста.
И ветру… орлу… пробует оно струны на звук,
ветру орлу — подтверждает — им нет закона
прибавляет: и сердцу девы. Они свободны.
Даже скука угрюмость и без причин тоска
bruit doux de la pluie par terre et sur les toits
свободны как слезы. На них нет закона.
А что сегодня иссяк на пение спрос затоварен склад
и булькает мятая влага в комнатных трубах
и арфисты подыгрывают конторским гроссбухам —
не может вышибить певчести из сознанья.
Потому что оно глотает чтоб не погаснуть — воздух
а воздух — он певчий. Он — тишина заготовленная на вечность
ни вспышки ни писка ни ноты
но звонким согласным его допотопного имени
доподлинно ведомо что сознание тихо
как оно тихо как оно тихо-тихо.
Ти и хо — весь его алфавит. В них-то и певчесть.