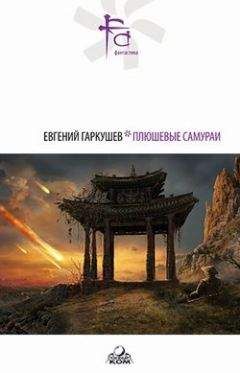Не-встречи и встречи
(Лондонский цикл)
…Молчание, в котором все слова
…Молчание, в котором все слова,
И серый день, в котором все дожди,
Однажды встретились, присели на скамейку
И ждут с надеждой нового дождя.
Они на небо смотрят: слишком близко.
Они на время смотрят: слишком поздно…
Да и сама погода давит слишком.
И серый день роняет: я устал…
Встает и растворяется в толпе.
В толпе людей, похожих друг на друга,
И на него.
Молчанье остается,
Поскольку ему некуда идти.
Вот разве что зайти в библиотеку
И спрятаться в старинном фолианте,
И там уснуть, и спать века пока,
Какой-нибудь старик полубезумный
его однажды в сумерках откроет,
найдет молчанье и возьмет к себе
в каморку, как бездомную собаку,
а вместо кости даст ему на ужин
воспоминаний жалкую похлебку…
«А может завтра я умру?»
С.К.
…А может, завтра я умру?
Зато воскресну послезавтра.
Ведь смерти нет и это правда,
и я надежду соберу,
осколки склею и опять
возникнет, словно чудо, ваза.
И незаконченная фраза,
как прежде сможет прозвучать,
не с середины, не с конца,
а снова с самого начала,
так чтобы тихо зазвучала
все та же музыка лица.
Есть откровенье красоты.
И свет, дарованный нам свыше.
…Мой друг в окно однажды вышел.
Но он умел летать. А ты?..
Почти дневник от 31.10.99
…Сегодня было три не-встречи.
А я остался слушать речи
о смерти, о любви, о вере[1].
Я слушал и смотрел на двери…
Потом на Oxford-street поехал:
еще одна не-встреча — эхо
не-встречи первой и второй,
точней, их следствие.
Настрой
был у меня меланхоличный.
Я кофе взял (он был отличный),
за столик сел и стал читать
слова про Облако Незнанья…
Но думал я про ожиданье.
Я думал: странно, можно ждать,
не ожидая ничего.
Не ожидая, ждать всего.
включая изгнанное чудо,
что мирно спит на дне сосуда
и ждет прикосновенья веры,
чтоб зазвучать. Нужны примеры?
Сперва скажите, для чего?
…Я ждал и думал: ничего
уже сегодня не случится,
и выпал день легко, как спица,
но он свое лицо обрел
и тихо за собой повел
меня и двух моих друзей…
Куда теперь пойти? В музей?
Зачем? Ведь я и так в музее,[2]
что ждет таких же ротозеев,
чтоб поглотить их с потрохами.
Они не замечают сами,
как книги время их крадут,
их жизнь, их музыку, их труд.
И что взамен? Чужое бремя,
чужие сны, и боль, и время.
Чужое прошлое и опыт,
советов злых лукавый шепот
и вечный спор о том, как жить…
А книгу так легко открыть
и погрузиться в мир манящий,
приняв его за настоящий.
Но это только шум и ярость.
А дальше что? Приходит старость
в один осенний вечер к нам.
…Так я бродил по этажам,
а рядом время шелестело,
но близко подойти не смело.
Я видел грусть в его глазах.
Но скоро стрелки на часах
струной застынут вертикальной —
мир закрывается, пора
вновь возвращаться в нереальность
вечерних улиц, тусклых бра.
…Я выхожу и целый вечер
ловлю совсем иные речи
о жизни, о любви, о вере.
И я опять смотрю на двери
и окна светлые кофеен,
слегка от голода рассеян…
Вокруг толпа, мелькают лица,
а я хочу уединиться.
Но, наконец, тот паб чудесный,
уютный и немного тесный.
В нем весело горит камин.
Огонь, — о чудо! — настоящий,
а ты, за столиком сидящий,
предмет поэзии иной.
Ты вновь становишься собой.
Берешь блокнот и пишешь стих,
и ощущаешь: шум утих.
Осталось счастье: ты один,
и пинта пива, и камин.
Они расставались. Надолго.
Доверье лежало у ног
Как грустный, смышленый и нежный,
И преданный очень зверек.
Он вниз посмотрел, улыбнулся.
«Пускай остается с тобой.
Оно к тебе больше привыкло,
И ты ему станешь сестрой».
Она головою качает:
«Нет, нет, забери его ты.
Дари ему радость и нежность,
И дни твои будут чисты.
Корми его вовремя, ночью
Клади под подушку к себе.
И там, на чужбине, как компас,
Пускай оно служит тебе».
Он вновь головою качает:
«С тобой ему лучше, пойми!
Нужна ему женская ласка
И твой неустойчивый мир.
Оно проведет сквозь разлуку
Коротким и верным путем.
Не будет тебе одиноко
Ни ночью дождливой, ни днем».
И долго они так стояли,
И спорили долго, кто прав.
И вниз они вдруг посмотрели,
От слов бесконечных устав.
И в ужасе оба нагнулись:
Доверье ушло. Навсегда.
…И плакал он ночью в вагоне,
Который не шел никуда.
" …я знаю, ты будешь смеяться, но "
…я знаю, ты будешь смеяться, но
мы постарели еще на одну не-встречу,
стали богаче еще на один вечер
одиночества странного, бесцветного одиночества,
от которого устаешь настолько,
что даже плакать не хочется,
не то, что писать, объясняться, придумывать теорию…
Просто каждый из нас пишет свою историю
жизни, порой торопится, делает кучу ошибок,
и тогда его шарахает током
боли, молчания и тех улыбок,
что пришли из прошлого, запутавшись во временах,
как плохой ученик — в наречиях и именах.
…И что остается тогда — утешать себя тем, что каждый
мог пропустить запятую, нужное слово, мог ошибиться?
Но этот дневник никогда не пишется дважды,
и в нем никогда нельзя просто перевернуть страницу.
1.
… мы живем в пространстве встреч и не-встреч.
И за каждой не-встречей — надежда.
А за каждою встречей — не-встреча,
в которой может быть все, что угодно:
дешевый рай большого города,
или маленький рай одиночества.
Но где бы мы не брели,
Надежда никогда не отводит лица,
снова и снова обещая нам встречу.
Но каждая не-встреча может обернуться любовью,
каждая любовь — пыткой,
а каждая пытка — усталостью…
…В бесконечных переходах метро,
в прокуренных пабах и полупустых кофейнях,
везде, куда ты приводишь за собой,
словно бездомного пса, слепое свое ожидание,
оно тебя спрашивает:
«И здесь нет?»
и когда ты устало отвечаешь «нет…»,
ожидание каждый раз повторяет:
«А ты уверен?..»
2.
По дороге в книжный
увидел в телефонной будке
маленькую японку.
…Еще одно отражение одиночества.
3.
…да нет, мы просто живем на разных этажах мира.
Иногда ходим друг к другу в гости.
Когда пригласят,
когда впустят,
когда дадут визу.
Но всегда приходится возвращаться на свой этаж
и мы снова живем на нем
и терпеливо ждем
Когда пригласят,
когда впустят,
когда дадут визу.
Но проходит год, и еще год,
и еще одна осень,
а нас все не приглашают,
и не пускают,
и не дают визу…
И тогда мир становится маленьким,
как косточка от вишни,
которую мы слишком рано съели.
28.12.99
…Доктор Мак-Фил
после работы
по пабам ходил,
и в каждом он пил
разное пиво,
чтобы казаться себе счастливым,
нежным и мудрым,
слегка ироничным,
в меру циничным…
Ни с кем не вступал он в прения
И соглашался со всеми,
Поскольку считал, что споры и трения —
Слишком тяжелое бремя.
Его знали бармены и завсегдатаи пабов,
А он постоянно путал их имена
И говорил: «Сегодня моя жена
меня не ждет, хотя и могла бы…»
Но все хорошо знали, что нет никакой жены.
И он знал, что все это знали.
Нет, алкоголиком его не считали,
Скорее поэтом темного пива, верящим в сны.
А он был физик, и притом весьма неплохой.
И днем это был совершенно другой человек.
Сдержанный, умный, почти сухой
в обращении с коллегами, державший всех
аспирантов в плену дисциплины и правил.
За его спиной шептали: вот наш педант,
уж лучше б он нас в покое оставил.
Но все, как один, соглашались: талант,
каких мало, генератор идей.
Потрясающий нюх, интуиция, глубина.
Чем бы была наука без таких вот людей,
Умеющих видеть до самого дна?
…………..
И никто из коллег не знал, что по вечерам
доктор Макфил уходит от времени,
садится за стол со стаканом и в темени
стучит все одно и то же, и по утрам
все трудней и трудней просыпаться
и вспоминать свое имя или название станции точное,
где ему выходить и бежать, а потом улыбаться
коллегам, студентам и прочим, стоящим цепочкою,
вокруг его жизни, которая давно закончилась,
но по инерции ищет свое продолжение,
как душа ищет выхода, в темнице тела ворочаясь,
как суббота ждет с нетерпением первых часов Воскресения.
…Сегодня день воспоминаний…
И в тесноте высоких зданий,
среди толпы пустой и шумной
старик блуждает полоумный.
И с непокрытой головою
он под дождем идет. Тоскою
иль страхом времени гоним.
Они же тешатся над ним…
Он потерял воспоминанья.
А это хуже, чем сознанье
терять — тебе его вернут.
А память разве вновь найдут?
Старик бредет, глядит на стекла
витрин (вся борода намокла),
а в них сверканье ярких красок,
чужих вещей, холодных масок…
Но нет его воспоминаний.
И только груз печальных знаний
на плечи давит и гнетет.
Старик сомнамбулой бредет
Из ниоткуда в никуда.
А скоро сумерки — беда…
Он темноты теперь боится,
он не выносит эти лица,
чужие лица… Город-страх
навек застыл в его глазах.
И на обман надежды нет…
Воспоминаньем не согрет,
он весь дрожит, в кафе заходит,
берет сто грамм, но не проходит
его тоска, его безумье.
Он пьет таблетку полнолунья,
чтобы забыть себя совсем…
Не замечаемый никем,
он из кафе с трудом выходит
и, как часы, свой страх заводит —
ведь вечер долгий впереди
и боль стучит в его груди
с уставшим сердцем в унисон.
Своим безумием несом,
как лодка без гребца, вперед,
он память ищет и зовет.
…А память сзади, словно тень,
за ним ходила целый день.
17–18.03.98