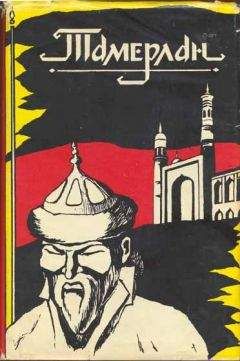Читателям Тимура Кибирова
К публике Тимур Кибиров пришел сложившимся поэтом. Случилось это давно – двадцать лет назад, в громокипящем (точнее, пожалуй, – резвоскачущем) 1988 году.
На вопрос о том, ко гда был обретен Кибировым неповторимый голос, ответить затруднительно. Голос этот вполне отчетливо слышен в большинстве известных нам сочинений, писаных незадолго до прорыва в печать, и можно лишь посетовать, что за пределами предлагаемого итогового изборника остались поэмы «Лесная школа», «Буран» (обе – 1986), «Сквозь прощальные слезы» (1987), «Три послания» («Л. С. Рубинштейну», «Любовь, комсомол и весна. Д. А. Пригову», «Художнику Семену Файбисовичу»; 19 87—1988) и ряд стихотворений той поры («После словие к книге „Общие места“, „Ветер перемен“, „Ничего не пила со вчерашнего дня…“, „Шаганэ ты моя, Шаганэ…“, „Какая скверная земля…“, „Рождественская песнь квартиранта“, „В новом, мамой подаренном зимнем пальто…“). Во второй – долго ждавшей своего часа, а потому припоздавшей – книге Кибирова „Календарь“[1] (Владикавказ, 19 91) самые ранние опусы относятся к середине семидесятых (надикт ованные армейскими буднями стихи из цикла «Слово о полку Н-ском» сопровождены двойной датировкой – 1975–1979). Существенно, однако, что многие мотивы «Календаря» станут смысловыми ядрами поэтической системы зрелого Кибирова, а иные стихотворения обретут новую жизнь в его позднейших книгах. Так «Эпитафии бабушкиному двору» (1984) войдут в «Сантименты» (1989). В книге «Послания Ленке и другие сочинения» найдется место стихам из цикла «Каникулы» (1984; «Майский жук прилетел…», «Карбида вожделенного кусочки…», «На коробке конфетной – Людмила…», «Скоро все это предано будет…») и «Идиллии. Из Андрея Шенье». Включенное в ту же книгу «Послание Сереже Гандлевскому. О некоторых аспектах нынешней социокультурной ситуации» строится на фундаменте «Четырехстопных ямбов» (1983). Исступленно мрачное, весьма изысканно построенное, но прежде не публиковавшееся стихотворение 1982 года «Для того, чтоб узнать…» Кибиров приводит в «Улице Островитянова> (1999), снабдив иронично-горьким постскриптумом: „Вот такие вот пошлости“/ я писал лет семнадцать назад». Здесь же под названием «Подражание псалму» помещено известное по «Календарю» стихотворение «Нет мочи подражать Творцу…» (1982) с заменой третьей строфы (первоначальный вариант – «Эй, кто смеется мне в лицо?/ Ты кто? – Никто, Ничто. / И мне ли быть всему творцом/ Средь пустоты густой?», вариант окончательный читатель найдет в этой книге). Появившаяся в год тридцатилетия (по Пушкину – «рокового термина») формула «юбилей лирического героя» пятнадцать лет спустя стала заглавьем очередной книги (2000). Особенно примечательна судьба «Гравюры Дюрера» (1980), воспроизведенной (с минимальной правкой) в книге «Шалтай-Болтай» (2002) и, вероятно, стимулировавшей появление там всего цикла «Пинакотека». Рискну предположить, что когда (если) будущему историку словесности представится возможность прочесть отроческие и юношеские вирши Кибирова, то и там обнаружатся знакомые ноты – то, что поэт по сей день (буквально) не перестает измываться над своими дебютными «декадентскими» воспарениями, кажется, не опровергает эту гипотезу, но ее усиливает. Экскурсы в предысторию (причем не только в ее «дописьменный» младенческо-детско-отроческий период, но и во времена запойного юношеского стихотворства) Кибиров совершает постоянно, вплоть до вошедшей в последнюю книгу лирико-дидактической поэмы «Покойные старухи». Автобиографический миф о рождении поэта – неотъемлемая часть творимого им мира.
Двадцать лет – срок изрядный при любых условиях. Если же в этот временной промежуток укладывается несколько «эпох» (наш случай) – тем паче. Первые пришедшие к публике стихи Кибирова привораживали многих читателей исторической точностью, умением поймать и запечатлеть дух бешено ускорившегося в ту пору времени. Лирический историзм поэт безусловно сохранил, а потому череда его сочинений вполне может читаться как своего рода «славная хроника», служить надежным, хотя и требующим особой оптики, источником по истории российской культуры (и/или общественной жизни) 1980-х – 2000-х годов. Фиксируя постоянные изменения социокультурного пейзажа, Кибиров с той же точностью и смелостью открывал миру приключения собственного духа, выстраивал детализированное повествование о своей блуждающей судьбе. Мена метрических, стилевых и жанровых доминант была не только наглядной, но и демонстративной. Совершая очередной поворот, Кибиров почти всегда прямо предлагал читателям настроиться на новую волну и «облегчал жизнь» интерпретаторам, подкладывая удобную схему «периодизации творческого процесса».
Двигаясь по предложенному Кибировым маршруту, следует, однако, помнить, что сколь угодно изощренные, неожиданные и дразнящие вариации обретают подлинный смысл (а потому способны привлечь внимание, стать расслышанными и понятыми) лишь в том случае, когда мы ощущаем властное присутствие рождающей их единой темы. Иначе говоря – судьбы поэта. Едва ли русский читатель способен представить себе более стремительную эволюцию и более широкий поэтический мир, чем пушкинские, но именно Пушкин однажды (и отнюдь не случайно) вымолвил «Каков я прежде был, таков и ныне я…» Истинный поэт остается собой при любых обстоятельствах. Вопреки иронично обыгранной (по сути – непреклонно оспоренной) Кибировым премудрости (равно любезной исполнительному чиновнику и высоколобому поставщику интеллектуальных бестселлеров) поэт в конечном счете не зависит от контекста. Как не должен зависеть от него всякий человек, о чем и напоминает ему поэтическое слово. Чем прихотливее узоры, тем яснее общий рисунок, чем ощутимей организующий стиховую ткань диалог, тем отчетливее единственный (и потому – узнаваемый) голос поэта.
Суть поэзии Тимура Кибирова в том, что он всегда распознавал в окружающей действительности «вечные образцы» и умел сделать их присутствие явным и неоспоримым. Гражданские смуты и домашний уют, трепетная любовь и яростная ненависть, шальной загул и тягомотная похмельная тоска, дождь, гром, снег, листопад и дольней лозы прозябанье, модные шибко умственные доктрины и дебиловатая казарма, «общие места» и безымянная далекая – одна из мириад, но единственная – звезда, старая добрая Англия и хвастливо вольтерьянствующая Франция, солнечное детство и простуженная юность, насущные денежные проблемы и взыскание абсолюта, природа, история, Россия, мир Божий говорят с Кибировым (а через него – с нами) только на одном языке – гибком и привольном, гневном и нежном, бранном и сюсюкающем, певучем и витийственном, темном и светлом, блаженно бессмысленном и предельно точном языке великой русской поэзии. Всегда новом и всегда помнящем о Ломоносове, Державине, Баратынском, Тютчеве, Лермонтове, Фете, Некрасове, Козьме Пруткове, Блоке, Ходасевиче, Мандельштаме, Маяковском, Пастернаке и Корнее Ивановиче Чуковском. Не говоря уж о Пушкине.
Много чего хлебнув, ощутив мерзкий вкус страха и греха, не поналышке зная о всеобщем нестроении и собственной слабости, Кибиров упрямо стоит на своем – неустанно благодарит Создателя и пишет стихи, то есть привносит в уже невменяемый, но не до конца безнадежный мир спасительную (только расслышь!) гармонию, напоминает нам (только пойми!) о нашей свободе. Как в пору отчаянного прощания с «советчиной», когда «некрасовский скорбный анапест», незаметно превращаясь в блоковский и набоковский, забивал горючими слезами носоглотку. Как в блаженные, но тайно тревожные, чреватые будущими срывами и потрясениями годы «Парафразиса». Как на рубеже тысячелетий, когда выстраданный и казавшийся спасительным уют дома на улице Островитянова сменился судорожной болью «нотаций», а измотанный счастливой игрой Амура (или кого-то более сильного) лирический герой справлял одинокий «полукруглый» юбилей. Как в ликующе наглом Солнечном городе, где стихоплету (такому же полоумному, как все великие и малые предшественники, как все, кому когда-нибудь выпадет участь бряцать на лире и дудеть в дудку) отведена роль заезжего (чужого, ненужного, лишнего, подозрительного) Незнайки. Так и сейчас. Победно восклицая «С нами Бог! Кара-барас!», заполняя кириллицей (в лучшем порядке) поля «A Shropshire Lad», возводя волшебный дворец трех поэм (с многочисленными непредсказуемыми пристройками), Кибиров остается Кибировым. И, подобно Степану из хулиганского стишка, пленительной глоссой на которую вершится новейшая книга «Три поэмы», идет вперед, «невзирая на морозы, / на угрозы и психозы».
А потому нам – его счастливым читателям – не страшен серый волк!
Андрей Немзер
Стихи были, кажется, очень плохие, но Аполлинарий говорил, что для верного о них суждения необходимо было видеть, какое они могут про из вести впечатление, если их хорошенько, с чувством прочесть нежной и чувствительной женщине.