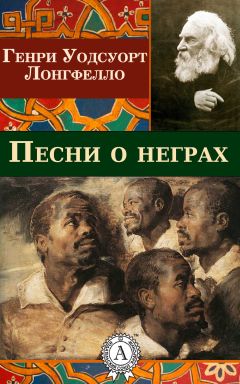Генри Уодсуорта Лонгфелло
ПЕСНИ О НЕГРАХ
Когда из книги мне звучал
Твой голос величаво, строго,
Я сердцем трепетным взывал:
«Хвала тебе, служитель бога!»
Хвала! Твоя святая речь
Немолчно пусть звучит народу!
Твои слова – разящий меч
В священной битве за свободу.
Не прерывай свой грозный клич,
Покуда ложь – законом века,
Пока здесь цепь, клеймо и бич
Позорят званье человека!
Во глубине твоей души
Господень голос непрестанно
Зовет тебя: «Пророк! пиши!» —
Как на Патмос – Иоанна.
Пиши кровавые дела
И возвести день скорби слезной,
День гнева над пучиной зла,
Апокалипсис этот грозный!
Истомленный, на рисовой ниве он спал.
Грудь открытую жег ему зной;
Серп остался в руке, – и в горячем песке
Он курчавой тонул головой.
Под туманом и тенью глубокого сна
Снова видел он край свой родной.
Тихо царственный Нигер катился пред ним,
Уходя в безграничный простор.
Он царем был опять, и на пальмах родных
Отдыхал средь полей его взор.
И, звеня и гремя, опускалися в дол
Караваны с сияющих гор.
И опять черноокой царице своей
С нежной лаской глядел он в глаза,
И детей обнимал, – и опять услыхал
И родных и друзей голоса.
Тихо дрогнули сонные веки его, —
И с лица покатилась слеза.
И на борзом коне вдоль реки он скакал
По знакомым, родным берегам…
В серебре повода, – золотая узда…
Громкий топот звучал по полям
Средь глухой тишины, – и стучали ножны
Длинной сабли коню по бокам
Впереди, словно красный кровавый платок,
Яркокрылый фламинго летел;
Вслед за ним он до ночи скакал по лугам,
Где кругом тамаринд зеленел.
Показалися хижины кафров, – и вот
Океан перед ним засинел.
Ночью слышал он рев, и рыкание льва,
И гиены пронзительный вой;
Слышал он, как в пустынной реке бегемот
Мял тростник своей тяжкой стопой…
И над сонным пронесся торжественный гул,
Словно радостный клик боевой.
Мириадой немолчных своих языков
О свободе гласили леса;
Кличем воли в дыханье пустыни неслись
И земли и небес голоса…
И улыбка и трепет прошли по лицу,
И смежилися крепче глаза.
Он не чувствовал зноя; не слышал, как бич
Провизжал у него над спиной…
Царство сна озарила сиянием смерть,
И на ниве остался – немой
И безжизненный труп: перетертая цепь,
Сокрушенная вольной душой.
НЕВОЛЬНИК В ПРОКЛЯТОМ БОЛОТЕ
В Проклятом Болоте, в трущобе лесной,
Бежавший невольник лежал.
Он видел – костер зажигали ночной;
Он слышал собак, за ним рыскавших, вой
И топот коней различал.
Где светятся искры блудящих огней
В болотной траве, по кустам,
Где лепится мох у древесных корней
И лозы – все в пятнах, как кожа у змей, —
Ползут по кедровым стволам;
Куда человек заглянуть бы не смел,
Где в зыбкой трясине кругом
Увлаженный дерн под ногами скрипел, —
В колючей и вязкой траве он засел,
Как зверь в логовище своем.
Несчастный старик, истомленный, больной,
Лицо все в глубоких рубцах,
Как в клеймах позорных. Одеждой худой
Не мог он прикрыть и позор свой другой —
Следы от бича на плечах.
Светло и прекрасно на свете всему,
Свобода и радость есть всем!
Вот векша скакнула, вот в сонную тьму
Песнь вольная птиц донеслася к нему.
А он неподвижен и нем!
Рассвета не видел он в жизненной мгле,
В неволе, в цепях, под бичом…
Как Каин, проклятье он нес на челе,
Безвыходным рабством придавлен к земле,
Как колос тяжелым цепом!
В пучинах глубокого моря,
Схоронены в зыбких песках,
Лежат, позабытые всеми,
Людские скелеты в цепях.
В глуби, где под вечным волненьем
Недвижимо воды легли,
Со всем своим людом и грузом
Недвижно стоят корабли.
Над морем шумящие бури
Не хлещут их черных боков.
И в тех кораблях – всё скелеты
В тяжелых запястьях оков.
То бедных невольников кости!
Белея средь пагубной тьмы,
Из темных валов они громко
Взывают: «Свидетели мы!»
Есть рынки на нашей просторной
Земле, где людей продают:
Ярмо им вздевают на шею,
И ноги им в цепи куют.
Без гроба валяются трупы
В пустыне, на снедь коршунам;
Убийства мерещатся детям,
Мешая им спать по ночам.
Корысть ненасытная, похоть,
Кичливый, бесстыдный порок,
Кровавые мысли, злодейства,
Мутящие жизни поток!
Несется вам клик обвиненья
Из этой неведомой тьмы.
Из тайных могил своих костя
Взывают: «Свидетели мы!»
Повесив праздно паруса,
Корабль в заливе ждал,
Чтоб месяц вышел в небеса
И вздулся темный вал.
Причалив к берегу в челне,
Рабочий люд следил,
Как аллигатор полз на дне
Улечься в мягкий ил.
А воздух вкруг благоухал
От трав и от цветов,
Как будто рай порой дышал
На этот мир грехов.
Плантатор в шалаше своем
Задумчиво курил.
Купец, прибывший с кораблем,
Окончить торг спешил.
Он молвил: «Не гостить привел
Я свой корабль в залив.
Я жду, чтоб месяц лишь взошел
Да начался прилив».
В лице с предчувствием немым,
Робка и хороша,
Кватронка-девушка пред ним
Стояла чуть дыша.
Большие искрились глаза;
По груди молодой
Спускалась черная коса
До юбочки цветной.
Улыбки свет в лице у ней
Мерцал, так свят и тих,
Как свет лампад в углу церквей
На лике у святых.
Плантатор думал: «Стар мой дом,
И проку нет в земле!»
Взглянул на девушку, – потом
На деньги на столе.
В душе смущенной верх брала
То жадность, то любовь:
Он знал, чья страсть ей жизнь дала
И чья текла в ней кровь.
Но глубь души была черна:
Он не осилил зла —
И деньги взял. Тут вся она
Застыла, замерла.
И жертву новую свою
Купец повел с собой,
Чтоб быть ему в чужом краю
Наложницей, рабой.
Припомните еврейское сказанье
О муже том, что растерзал рукой,
Как агнца, льва, – как, жалкий и слепой,
Не видя света божья, истязанья
Он от врагов терпел, лишенный сил,
И жернов целый день в тюрьме кружил;
Как наконец на пир из заточенья
Был приведен – сносить врагов глумленья.
В отчаянье, средь пира, обнял он
Столпы громадной храмины руками —
Шатнулся свод над пирными столами,
И стены рухнули со всех сторон.
При грохоте разрушенного зданья
Сменились страшным воплем ликованья.
Погиб и раб, несчастный и слепой;
Но тысячи похоронил с собой!
Самсон порабощенный, ослепленный
Есть и у нас в стране. Он сил лишен,
И цепь на нем. Но – горе! если он
Поднимет руки в скорби исступленной —
И пошатнет, кляня свой тяжкий плен,
Столпы и основанья наших стен, —
И безобразной грудой рухнут своды
Над горделивой храминой свободы!
<1861>