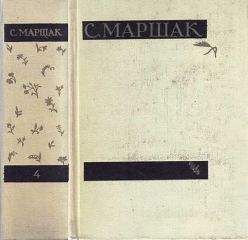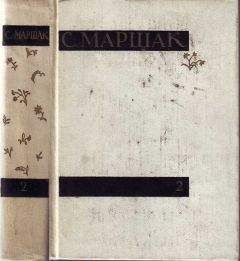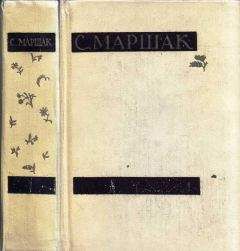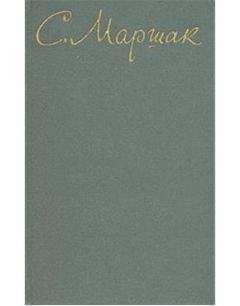Тут уж дело серьезнее. Откуда и как течет в руки к нашим школьникам эта промозглая бульварщина?
Оказывается, бывают такие случаи. Ребята собирают деньги, ходят по букинистам и подбирают себе коллекции любимых приключений. За это удовольствие они платят очень дорого. Какая-нибудь «Пещера Лейхтвейса», дрянная книжонка копеечной стоимости, — теперь библиографическая редкость, за нее приходится платить не копейками, а рублями.
В эту пеструю коллекцию иногда по недоразумению попадает и добропорядочный, переходящий от поколения к поколению Майн Рид, но зато здесь же пристраивается и Лидия Чарская, которая до сих пор еще вызывает в нашей школе ожесточенные дискуссии, разделяя надвое целый класс: 9 — за Чарскую, 13 — против.
«Мне нравятся книги писателя Чарской, потому что она описывает грустно и всегда про детей. И еще мне нравятся старинные книги старого писателя Боровлева».
Так пишет Горькому какая-то меланхолическая читательница, не пожелавшая открыть свое имя.
Письмо это отличается от других писем и грустным тоном, и редким однолюбием.
Только один автор владеет сердцем этой читательницы — Лидия Чарская (если не считать, конечно, старого-старинного писателя Боровлева). Другие ребята не столь исключительны в своих симпатиях. Они тоже упоминают иногда Чарскую, но любят ее, так сказать, «по совместительству», рядом с Буссенаром и Бляхиным. И любят не за грусть, а наоборот — за удаль, за горцев, за сверкающие шашки и вороных коней!
Эти читатели верны Чарской только до тех пор, пока им не посчастливилось набрести на другого удалого писателя, который выдумает героя похлестче «кавалерист-девицы» и похрабрее княжны Джавахи.
Таким героем оказался остроумовский «Макар Следопыт», он же Макарка Жук.
О нем написаны целых две повести. В предисловии ко второй, которая называется «Черный лебедь», автор — Л. Остроумов — посвятил своему рентабельному герою несколько глубоко прочувствованных строк.
«Знаешь ли ты, — пишет он, обращаясь к своему «Макару Следопыту», — что от тебя без ума все ребята в СССР? Знаешь ли ты, что книгу о твоих похождениях в гражданскую войну все они читают, как говорится, взасос, что ты стал так же знаменит, как Робинзон Крузо, и твое имя стоит рядом с ним в списке любимых книг нашей молодежи?.. Ты хочешь знать, за что тебя полюбили ребята?.. По-моему, за то, что ты им уж очень сродни: такой же озорник и разбойник, как все они. Это первое. А второе — за то, что ты ничего никогда не боялся и всегда умел выйти из затруднительного положения. А еще за то, что ты хороший парень и зря никогда никого не обижал… Ты тот новый человек, который рожден революцией и который еще удивит мир своими делами».
В этом предисловии много правды.
«Макар Следопыт» в самом деле очень популярен. Читателям действительно нужен герой, рожденный революцией и похожий на своих сверстников — советских школьников и пионеров. Им нужен герой, который ничего не боится, умеет выйти из затруднительных положений и зря никого не обижает.
Но вся беда в том, что Макар Следопыт благороден, как Рокамболь, первый герой парижских бульваров; находчив, как Пинкертон, и храбр, как горный разбойник Ага-Керим из повестей Лидии Чарской.
Чтобы не быть голословным, я процитирую несколько мест.
«— Товарищ командир, — обратился Макар к начальнику конных разведчиков. — Разрешите взять бронепоезд!
Тот вытаращил на него глаза.
— Хотел бы я знать, как это сделать! Что дурака валяешь!
— Никак нет, это совсем просто. Надо взорвать путь позади него, потом спереди, под самым паровозом, потом ударить в атаку».
Макар так и сделал: спереди взорвал, сзади взорвал и т. д.
С тех пор, говорит автор, за Макаром-Следопытом установилась кличка «Хват».
Вот вам и храбрость.
Теперь о находчивости.
Макар везет донесение в штаб Красной Армии. Он только что оправился от раны в ногу и поэтому не может ехать на коне, а едет на мотоцикле.
«Машина… перестала работать. Макар с отчаяньем посмотрел по сторонам. Ах, если бы возле него был вороной конь! Но с ним только мертвая машина да буря, — а ведь бурю не оседлаешь… А почему бы и нет? Блестящая мысль пришла ему в голову. Ветер-то ведь попутный. Он и домчит Следопыта куда надо».
«Мигом кинулся Макар в лесок и выломал там две длинные хворостины… Торопливо скинул шинель, гимнастерку и сорочку, снова надел шинель на голое тело, а сорочку и гимнастерку связал рукавами и привязал их концами к хворостинам. Потом притянул хворостины к раме мотоцикла, поставив их торчком над седлом так, что получился парус на славу. Порывистый ветер сразу надул этот парус… Стальной конь рванулся вперед и понесся на крыльях бури…»
«…Мужики и ребята выскакивали из домов и, дивясь, глядели, как мчится Макар на мотоцикле под парусом. А он ехал и посмеивался про себя:
«Дивитесь, ребята, дивитесь. Коли в голове не навоз, так сумеем оседлать не только бурю, а и самого чорта» (II том, стр. 160-162).
Вот она, находчивость Макарки Жука!
Для того чтобы определить качество этого произведения, довольно было бы взять из него наугад две-три фразы. Это типичный «рóман» из старорежимного журнала «Родина». Тут налицо все элементы «рóмана»: и загримированные незнакомцы, и тайны, и холодная рука смерти, и неожиданное спасение в последнюю минуту.
Для полноты картины в этой бульварной эпопее, изданной Гизом и книгоиздательством «Пролетарий», не хватает только любовной интриги. Впрочем, и любовная интрига есть, только немножко куцая.
Золотоволосая дочка помещика, Любочка Балдыбаева, освобождает красного разведчика Макарку из плена.
«…Легкий шелест за дверью (чулана — С. М.) заставил его напрячь слух. Потом чуть слышный шепот спросил:
— Макар, ты жив?
Что такое? Женский голос? Жаром обдало Жука!
— Любочка, ты?
— Я, тише. Где ты?»
…………
«Ну ладно! Знаешь, я весь день тогда думала… Ты молодец, Макарка, а с мужиками драться совсем глупо… И Юрий зря с вами воюет… Совсем это ни к чему… А тебя мне жалко… Мы ведь с тобою рыбу ловили… И вообще все это чепуха!»
«Эти слова она прошептала быстро-быстро, прижавшись всем телом к Макару, обдавая его лицо своим взволнованным, горячим дыханием.
Сердце его вдруг согрелось какой-то нежданной лаской.
Крепко стиснув ее слабенькую, непривычную к работе ручку, он шепнул:
— Ты хорошая, Любик. Я знаю, ты будешь за нас, мужиков.
— Буду, Макар. И теперь пришла освободить тебя. Беги, пока они не проснулись» (I том, стр. 117-118).
Вот вам и любовная интрига, да еще и вместе с «р-революционной идеологией».
После этого Любик бежит от родных вслед за Макаром-Следопытом и становится заядлым врагом белых.
Во второй повести Остроумова, «Черный лебедь», в ту же Любочку влюбляется польский контрразведчик Стах. И он тоже становится непримиримым врагом помещиков и капиталистов. Жалко, что эпопея обрывается на второй книге, а то бы хват Макар и прекрасная Любочка разагитировали весь мир…
О романах Остроумова не стоило бы говорить здесь так много. Но в письмах читателей они упоминаются десятки раз.
Значит ли это, что у наших читателей испорченный литературный вкус и слабое политическое чутье? Нет, не значит. Те же читатели предлагают в письмах серьезные темы, высказывают живые и очень типичные для советского школьника мысли.
Очевидно, Остроумов поймал их на «живца», закинул такую приманку, на которую молодой неопытный читатель непременно клюнет. Эта приманка — густая фабульность, героика, романтика.
Наша первая и неотложная задача — помочь ребятам понять, какой суррогат подсунули им вместо книги, которая должна была ответить на самые лучшие их побуждения, удовлетворить законные требования их возраста.
13. Почему у нас в головах засели такие книги?
Советская пинкертоновщина и рокамболевщина, пожалуй, даже опаснее старой. Ведь читатель и сам знает, чего стоит старая. Он несет ее под полой не только потому, что скрывает от учителя или от вожатого пеструю обложку с тиграми и скелетами. Нет, он явно стыдится своей покупки, он отлично понимает, что ему, советскому школьнику и пионеру, не пристало быть потребителем старорежимного товара с таким явным запашком.
Недаром же о старой сыщицкой литературе он говорит в письмах так:
«Увлекаюсь, но знаю, что дрянь».
«Читать-то читаю, но только для развлечения».
Да кроме того, у нас есть надежда, что и старый-старинный писатель Боровлев и Ник Картер когда-нибудь умрут самой обыкновенной, естественной смертью. Ведь в конце концов не на пергаменте же они напечатаны, а всего только на бумаге, да еще и довольно скверной. А вновь, я полагаю, никто их не переиздаст. Наши печатные станки не сдаются в аренду спекулянтам.