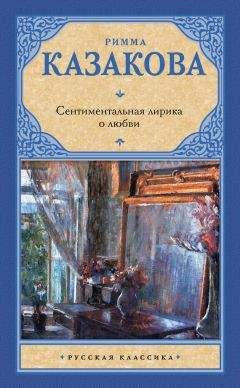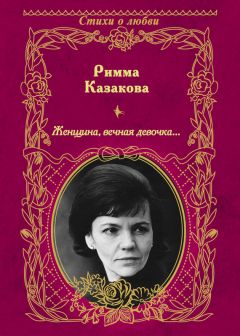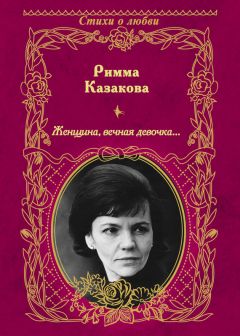Выдержат ли твои руки,
выдержит сердце твое
не неизбежность разлуки,
а невозможность ее?
И не ломая, а строя,
в тесном и честном кругу
выдержишь ли то, что все я
выдержать в жизни смогу?..
«У природы – время года…»
У природы – время года,
у меня по большей части
время всхода и восхода,
время горя, время счастья.
А зима и снег во поле,
а июль, горяч и плотен, –
добавление, не боле,
обрамление полотен.
Время кроссов, и вопросов
и всего, чем жизнь согрелась…
Время-зрелость – юность взрослых,
время-старость – взрослых зрелость.
Время-радость, время-бремя,
время-друг и время-деспот…
И, когда ты рядом, время –
нескончаемое детство.
Отпусти меня, любовь,
в ту страну иную,
где забудем мы с тобой
ту струну больную…
Я люблю людей, сады,
волн разгульных клекот.
Я умею от судьбы
улетать далеко.
Отпусти меня, любовь,
из страны недужной
в ту, где будет мил любой
по законам дружбы.
Там в прохладе голубой
ждет меня удача.
Отпусти меня, любовь! –
повторяю, плача.
С сердца руку убери,
дай свободно биться,
бинт присохший отдери
до крови – но быстро!
Отпусти меня, любовь,
в поле, в лес зеленый,
в царство ягод и грибов
от тоски залетной.
К тем пичужкам, к тем пенькам,
где теснятся грузди,
к тем бесстрастным облакам,
что не знают грусти.
К той душе, что все больна:
горе точит, точит…
К тем, кому ты так нужна,
а ему – не очень…
Вот и кончена игра.
Выйдем вон из круга.
На каникулы пора
отпустить друг друга.
Отпусти меня, любовь!
Время все развеет.
Так взываю вновь и вновь.
А она не верит.
…Давно я не оптимистка,
и, может, конец стране,
где щекотно и тенисто,
ресницы твои на мне.
Но если и отдымилась
развалинами дотла,
оказана эта милость,
и эта страна – была.
И многое в жизни смею,
и с этой звездой во лбу,
как целый народ, имею
историю и судьбу.
«Как давно я не летала!..»
Как давно я не летала!
Каюсь, маюсь, наверстаю.
Все опять понятным стало.
Возвращаюсь в стаю.
Стая – это крылья в крылья.
Высоко меня там ставят.
Мне дорогу не закрыли.
Возвращаюсь в стаю!
Дни летящие листаю.
Мало ль чем была томима?
Этот поезд, шедший мимо…
Возвращаюсь в стаю!
Стая свой спектакль ставит
над морями, над лугами.
Сны сумбурные солгали.
Возвращаюсь в стаю!
Но, крыло свое пластая
в небесах, теряя перья,
затоскую по тебе я,
и при чем тут стая?
Только нет пути иного.
День ко дню крылом верстая,
стану просто птицей снова.
Возвращаюсь в стаю!
Тихим облачком растаю.
Позабуду – что ты, где ты…
Не держал ты, не хотел ты!
Возвращаюсь в стаю.
«Мгновение, тебя благодарю…»
Мгновение, тебя благодарю
за то, что ты – как ветра дуновенье,
за то, что только ты не лжешь, мгновенье,
ни мне, ни жизни, ни календарю.
Забыть тебя решим или вернуть,
тоскою или счастьем ослепило,
всегда сказать мы можем: «Это – было!» –
и вознести или перечеркнуть.
Мгновение, входи, своди с ума!
Бесстрашное тебе повиновенье
прекрасно!
И прекрасное мгновенье,
быть может, для кого-то – я сама…
«Всё обновляется, обновляется!..»
Всё обновляется, обновляется!
Каждую крохотку ждёт обновленье.
Скучная осень в снегу обваляется…
Подло оболганное обеляется,
а отболевшее отделяется
и отдаляется, отдаляется
в загалактическое отдаленье!
Всё обновляется, обновляется…
Слышу, по радио объявляется:
жгучий мороз! Но – как будто теплей
сразу дыханье подснежных полей.
Всё обновляется, обновляется…
Горя с души моей отбавляется.
Чудо любви! Вот и верю навечно,
что существуешь – вещественно, вещно,
как этот в иней укутанный, синий
лес в предрассветном февральском окне,
как этот милый воробышек зимний,
клювиком нежности невыносимой
в самое сердце тук-тукнувший мне.
Всё обновляется, обновляется…
Ты не соврёшь мне? Ты не соврёшь?
Плод, намекнувший, что в плоть оплавляется,
с ветки поспешной рукой не сорвешь?!
Всё обновляется, обновляется,
солнцем полуденным опаляется,
золотом осени опыляется,
неоперённым птенцом оперяется…
О, безрассудное до одурения,
жажды прекраснейшей обновления,
храброе сердце моё, не лишись!
Пусть в тебе колоколом сопротивления
бухает гордое это боление,
это горение, это борение,
мука и радость по имени жизнь!
Чтобы снежную бабу лепить,
надо снежную бабу любить,
потому что растает, растает…
Ах, зачем только сердце врастает,
так навечно врастает в невечное,
в неувенчанное, в невенчанное?
Я леплю тебя, снежная баба,
Может, хуже еще, чем могла бы.
Мне порою совсем непонятно,
что теплом тебя можно убить!
Все равно не могу не лепить,
не выравнивать там, где помято.
Стать бы твердой, холодною, сильной,
неподвластной, напрасной, сизифьей,
скоморошьей работе такой!
Но мне скучно от голой равнины.
…Обжигающий, чистый, ранимый,
тает снег у меня под рукой.
«Остановись, мгновенье, ты прекрасно!..»
Ведь то, что так прекрасно ты, напрасно.
И то напрасно, что куда-то ввысь
тебе я говорю: «Остановись!..»
Остановить не стоит ничего:
так в поезде рвануть стоп-кран недолго…
Твоя пыльца на пальцах – это только
всего лишь тень полета твоего.
И что ловить, как бабочку – сачком,
как звездочку снежинки – на перчатку,
когда, печаля нотой беспечальной,
ты тренькнешь вдруг невидимым сверчком!
Смотрю на снег, а вижу – мчит вода,
как зверь клыкастый, раня снег клокастый…
И все же утешает, как лекарство,
завернутое в слово «никогда»:
«Остановись, мгновенье, ты прекрасно!..»
А зима, хоть и морозит слабо, –
до глухого снежная зима.
…Это я такая, я сама –
снежная, запутанная баба.
В снежной, ватной, маленькой Москве
я живу – как кочка под сугробом.
Все в оцепенении суровом.
Сжались звезды. Замер свист в свистке.
Я забита снегом, как овраг.
Вывозить – не хватит самосвалов.
Отогреть – не хватит самоваров.
Смерзлась! – посочувствует и враг.
Кто же это так жестоко вник
в мой последний всхлип и в первый лепет,
стал лепить, слепил и вот – не лепит,
словно точкой завершил дневник?
Мой ваятель, жжет тебя тоска,
знаешь, что ускоришь словом добрым –
как прикосновеньем к снегу теплым –
ту развязку, что уже близка.
Да, примерзнув к скользкости крыльца
в голубой законченности льдистой,
понимаю, зябко зубы стиснув,
что в конце подобном нет конца.
Я уже – скворцом – лицом в апрель.
Совершенство снежное постыло.
Я уже к остывшему остыла.
Лучше ты, губя, но отогрей.
Я уже к январскому глуха.
Мне уже не плохо и не страшно,
мне уже так многое не важно,
я теперь – за версты, за века
от крыльца, с которого сбегу,
оттолкнув сползающее небо, –
Золушкой из тающего снега
с туфелькой, увязнувшей в снегу…
Непрочность снега непорочна.
Теплом, как лыжами, примят,
о, как прекрасно и непрочно
последним снегом светит март!
Его невечность так беспечна
и беспечальна, и добра,
что я у снега – как у печки
или как будто у костра.
Есть много радостей у года –
авось и в них я угожу!
Учиться мужеству ухода
я вдоль по марту ухожу.
А в мире, словно на вокзале:
лишь – вдаль и лишь – издалека.
И плачут светлыми слезами
сугробы, будто облака.
И невозможно осмеянье
всего, что, может, грех и смех,
а только – тихое сиянье,
которым обернется снег.
Мне жалко все-таки дублершу,
не ту исправную долбершу,
что – точка в точку, как пароль, –
перенимает у премьерши
ее божественную роль.
Мне жалко ту, что стала б лучшей,
когда бы ни капризный случай…
А впрочем, не его вина.
Был тренер убеждён: «Добьёшься!»
Ну а талантливость – дублёрша,
и вот срывается она.
Талантливость – не для сравнений.
Талантливость полна сомнений,
порой ломающих хребет.