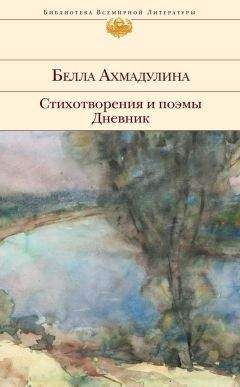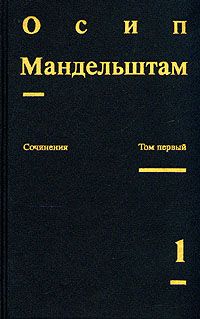Уроки музыки
Люблю, Марина, что тебя, как всех,
что, как меня, —
озябшею гортанью
не говорю: тебя – как свет! как снег! —
усильем шеи, будто лёд глотаю,
стараюсь вымолвить: тебя, как всех,
учили музыке. (О, крах ученья!
Как если бы, под Бо́гов плач и смех,
свече внушали правила свеченья.)
Не ладили две равных темноты:
рояль и ты – два совершенных круга,
в тоске взаимной глухонемоты
терпя иноязычие друг друга.
Два мрачных исподлобья сведены
в неразрешимой и враждебной встрече:
рояль и ты – две сильных тишины,
два слабых горла: музыки и речи.
Но твоего сиротства перевес
решает дело. Что рояль? Он узник
безгласности, покуда в до диез
мизинец свой не окунет союзник.
А ты – одна. Тебе – подмоги нет.
И музыке трудна твоя наука —
не утруждая ранящий предмет,
открыть в себе кровотеченье звука.
Марина, до! До – детства, до – судьбы,
до – ре, до – речи, до – всего, что после,
равно, как вместе мы склоняли лбы
в той общедетской предрояльной позе,
как ты, как ты, вцепившись в табурет, —
о, карусель и Гедике ненужность! —
раскручивать сорвавшую берет,
свистящую вкруг головы окружность.
Марина, это всё – для красоты
придумано, в расчете на удачу
раз накричаться: я – как ты, как ты!
И с радостью бы крикнула, да – плачу.
Октябрь 1963
«Случилось так, что двадцати семи…»
Случилось так, что двадцати семи
лет от роду мне выпала отрада
жить в замкнутости дома и семьи,
расширенной прекрасным кругом сада.
Себя я предоставила добру,
с которым справедливая природа
следит за увяданием в бору
или решает участь огорода.
Мне нравилось забыть печаль и гнев,
не ведать мысли, не промолвить слова
и в детском неразумии дерев
терпеть заботу гения чужого.
Я стала вдруг здорова, как трава,
чиста душой, как прочие растенья,
не более умна, чем дерева,
не более жива, чем до рожденья.
Я улыбалась ночью в потолок,
в пустой пробел, где близко и приметно
белел во мраке очевидный Бог,
имевший цель улыбки и привета.
Была так неизбежна благодать
и так близка большая ласка Бога,
что прядь со лба – чтоб легче целовать —
я убирала и спала глубоко.
Как будто бы надолго, на века́,
я углублялась в землю и деревья.
Никто не знал, как му́ка велика
за дверью моего уединенья.
1964
Впасть в обморок беспамятства, как плод,
уснувший тихо средь ветвей и грядок,
не сознавать свою живую плоть,
ее чужой и грубый беспорядок.
Вот яблоко, возникшее вчера.
В нём – мышцы влаги, красота пигмента,
то тех, то этих действий толчея.
Но яблоку так безразлично это.
А тут, словно с оравою детей,
не совладаешь со своим же телом,
не предусмотришь всех его затей,
не расплетешь его переплетений.
И так надоедает под конец
в себя смотреть, как в пациента лекарь,
всё время слышать треск своих сердец
и различать щекотный бег молекул.
И отвернуться хочется уже,
вот отвернусь, но любопытно глазу.
Так музыка на верхнем этаже
мешает и заманивает сразу.
В глуши, в уединении моем,
под снегом, вырастающим на кровле,
живу одна и будто бы вдвоем —
со вздохом в лёгких, с удареньем крови.
То улыбнусь, то пискнет голос мой,
то бьется пульс, как бабочка в ладони.
Ну, слава Богу, думаю, живой
остался кто-то в опустевшем доме.
И вот тогда тебя благодарю,
мой организм, живой зверёк природы,
верши, верши простую жизнь свою,
как солнышко, как лес, как огороды.
И впредь играй, не ведай немоты!
В глубоком одиночестве, зимою,
я всласть повеселюсь средь пустоты,
тесно́ и шумно населенной мною.
1964
О Грузия, лишь по твоей вине,
когда зима грязна и белоснежна,
печаль моя печальна не вполне,
не до конца надежда безнадежна.
Одну тебя я счастливо люблю,
и лишь твое лицо не лицемерно.
Рука твоя на голову мою
ложится благосклонно и целебно.
Мне не застать врасплох твоей любви.
Открытыми объятия ты держишь.
Все говоры, все шепоты твои
мне на ухо нашепчешь и утешишь.
Но в этот день не так я молода,
чтоб выбирать меж севером и югом.
Свершилась поздней осени беда,
былой уют украсив неуютом.
Лишь черный зонт в моих руках гремит,
живой, упругий мускул в нём напрягся.
То, что тебя покинуть норовит, —
пускай покинет, что́ держать напрасно.
Я отпускаю зонт и не смотрю,
как будет он использовать свободу.
Я медленно иду по октябрю,
сквозь воду и холодную погоду.
В чужом дому, не знаю почему,
я бег моих колен остановила.
Вы пробовали жить в чужом дому?
Там хорошо. И вот как это было.
Был подвиг одиночества свершен,
и я могла уйти. Но так случилось,
что в этом доме, в ванной, жил сверчок,
поскрипывал, оказывал мне милость.
Моя душа тогда была слаба,
и потому – с доверьем и тоскою —
тот слабый скрип, той песенки слова
я полюбила слабою душою.
Привыкла вскоре добрая семья,
что так, друг друга не опровергая,
два пустяка природы – он и я —
живут тихонько, песенки слагая.
Итак – я здесь. Мы по ночам не спим,
я запою – он отвечать умеет.
Ну, хорошо. А где же снам моим,
где им-то жить? Где их бездомность реет?
Они все там же, там, где я была,
где высочайший юноша вселенной
меж туч и солнца, меж добра и зла
стоял вверху горы уединенной.
О, там, под покровительством горы,
как в медленном недоуменье танца,
течения Арагвы и Куры
ни встретиться не могут, ни расстаться.
Внизу так чист, так мрачен Мцхетский храм.
Души его воинственна молитва.
В ней гром мечей, и лошадиный храп,
и вечная за эту землю битва.
Где он стоял? Вот здесь, где монастырь
еще живет всей свежестью размаха,
где малый камень с легкостью вместил
великую тоску того монаха.
Что, мальчик мой, великий человек?
Что сделал ты, чтобы воскреснуть болью
в моём мозгу и чернотой меж век,
всё плачущей над маленьким тобою?
И в этой, Богом замкнутой судьбе,
в твоей высокой муке превосходства,
хотя б сверчок любимому, тебе,
сверчок играл средь твоего сиротства?
Стой на горе! Не уходи туда,
где – только-то! – через четыре года
сомкнется над тобою навсегда
пустая, совершенная свобода!
Стой на горе! Я по твоим следам
найду тебя под солнцем, возле Мцхета.
Возьму себе всем зреньем, не отдам,
и ты спасен уже, и вечно это.
Стой на горе! Но чем к тебе добрей
чужой земли таинственная новость,
тем яростней соблазн земли твоей,
нужней ее сладчайшая суровость.
1964
Странный гость побывал у меня в феврале.
Снег занес мою крышу еще в январе,
предоставив мне замкнутость дум и деяний.
Я жила взаперти, как огонь в фонаре
или как насекомое, что в янтаре
уместилось в простор тесноты идеальной.
Странный гость предо мною внезапно возник,
и тем более странен был этот визит,
что снега мою дверь охраняли сурово.
Например – я зерно моим птицам несла.
«Можно ль выйти наружу?» – спросила. «Нельзя», —
мне ответила сильная воля сугроба.
Странный гость, говорю вам, неведомый гость.
Он прошел через стенку насквозь, словно гвоздь,
кем-то вбитый извне для неведомой цели.
Впрочем, что же еще оставалось ему,
коль в дому, замурованном в снежную тьму,
не осталось для входа ни двери, ни щели.
Странный гость – он в гостях не гостил, а царил.
Он огнем исцелил свой промокший цилиндр,
из-за пазухи выпустил свинку морскую
и сказал: «О, пардон, я продрог, и притом
я ушибся, когда проходил напролом
в этот дом, где теперь простудиться рискую».
Я сказала: «Огонь вас утешит, о гость.
Горсть орехов, вина быстротечная гроздь —
вот мой маленький юг среди вьюг справедливых.
Что касается бедной царевны морей —
ей давно приготовлен любовью моей
плод капусты, взращенный в нездешних заливах».
Странный гость похвалился: «Заметьте, мадам,
что я склонен к слезам, но не склонны к следам
мои ноги промокшие. Весь я – загадка!»
Я ему объяснила, что я не педант
и за музыкой я не хожу по пятам,
чтобы видеть педаль под ногой музыканта.
Странный гость закричал: «Мне не нравится тон
ваших шуток! Потом будет жуток ваш стон!
Очень плохи дела ваших духа и плоти!
Потому без стыда я явился сюда,
что мне ведома бедная ваша судьба».
Я спросила его: «Почему вы не пьете?»
Странный гость не побрезговал выпить вина.
Опрометчивость уст его речи свела
лишь к ошибкам, улыбкам и доброму плачу:
«Протяжение спора угодно душе!
Вы – дитя мое, баловень и протеже.
Я судьбу вашу как-нибудь переиначу.
Ведь не зря вещий зверь чистой шерстью белел —
ошибитесь, возьмите счастливый билет!
Выбирайте любую утеху мирскую!»
Поклонилась я гостю: «Вы очень добры,
до поры отвергаю я ваши дары.
Но спасите прекрасную свинку морскую!
Не она ль мне по злому сиротству сестра?
Как остра эта грусть – озираться со сна
средь стихии чужой, а к своей не пробиться.
О, как нежно марина, моряна, моря
неизбежно манят и минуют меня,
оставляя мне детское зренье провидца.
В остальном – благодарна я доброй судьбе.
Я живу, как желаю, – сама по себе.
Бог ко мне справедлив и любезен издатель.
Старый пес мой взмывает к щеке, как щенок.
И широк дивный выбор всевышних щедрот:
ямб, хорей, амфибрахий, анапест и дактиль.
А вчера колокольчик в полях дребезжал.
Это старый товарищ ко мне приезжал.
Зря боялась – а вдруг он дороги не сыщет?
Говорила: когда тебя вижу, Булат,
два зрачка от чрезмерности зренья болят,
беспорядок любви в моём разуме свищет».
Странный гость засмеялся. Он знал, что я лгу.
Не бывало саней в этом сиром снегу.
Мой товарищ с товарищем пьет в Ленинграде.
И давно уж собака моя умерла —
стало меньше дыханьем в груди у меня.
И чураются руки пера и тетради.
Странный гость подтвердил: «Вы несчастны теперь».
В это время открылась закрытая дверь.
Снег всё падал и падал, не зная убытка.
Сколь вошедшего облик был смел и пригож!
И влекла петербургская кожа калош
след – лукавый и резвый, как будто улыбка.
Я надеюсь, что гость мой поймет и зачтет,
как во мраке лица серебрился зрачок,
как был рус африканец и смугл россиянин!
Я подумала – скоро конец февралю —
и сказала вошедшему: «Радость! Люблю!
Хорошо, что меж нами не быть расставаньям!»
1965