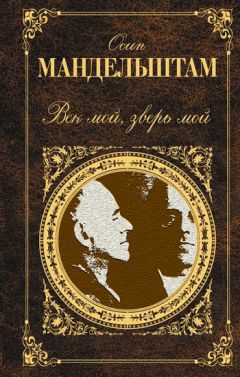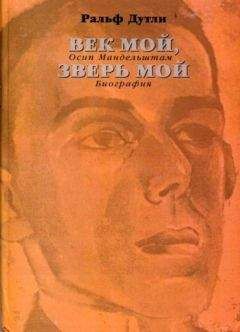Когда художественники привезли «Вишневый сад» в один большой русский провинциальный город, по городу распространилась весть, что труппа не захватила с собой «пузатого комода». С искренним огорчением передавали друг другу обыватели эту подробность. Без комода ведь уже не то. Пальцам «Фомы» уже нельзя будет к нему прикоснуться.
Что такое знаменитые «паузы» «Чайки» и других чеховских постановок?
Не что иное, как праздник чистого осязания. Все умолкает, остается одно безмолвное осязание.
Путь к театру шел от литературы, но в литературу не верили как в бытие, слова не слышали и не осязали.
К литературе требовался толмач, переводчик. Эту роль навязали театру.
Вся деятельность Художественного театра прошла под знаком недоверия к слову и жажды внешнего осязания литературы.
Начиная от «Федора Иоанновича», кончая «Лизистратой», это один цельный путь. Доходило до курьезов: елизаветинский Шекспир на античный лад.
По-настоящему буйствовал народ, по-настоящему плакали и пели, и стрелялись. Но я помню «На дне». Ведь все-таки это был ситцевый и трущобный маскарад. Чистенький притон. Прилизанная трущоба. Осязать смрад и грязь им не удалось, как и многое другое. По-настоящему они осязали только себя.
Я говорю о Х<удожественном> т<еатре> без враждебности и с уважением: он не мог быть иным. Он был расплатой целого поколения за словесную его немоту, за врожденное косноязычие, за недоверие к слову. Вместо того, чтобы читать в слове, искали, что просвечивает за ним (теория сквозного действия). Уж не проще ли было заменить текст «Горе от ума» собственными «психологическими» ремарками и домыслами?
Никогда не читали текст. Всегда свои домыслы. Истинный и праведный путь к театральному осязанию лежит через слово, в слове скрыта режиссура. В строении речи, стиха или прозы дана высшая выразительность.
Они этого не знали. Они исправляли слово, помогали ему. Они ошибались, запинались и путались в пушкинских стихах, беспомощно размахивая костылями декламации – выразительного чтения.
Несколько раз переделывали актерскую «азбуку чувств» и все-таки играли не правду, а актерский шифр.
Бытовой театр, М. Х. Т. всегда был условным, театром-толмачом, переводчиком текста на актерскую азбуку чувств.
Вспоминаю «Месяц в деревне». Кажется, пустяк. Легкая безделушка. А как неестественно, развязно звучали голоса Верочки и других, с растяжкой, с истерическим смехом.
В «Лизистрате» все женщины читают по-старому, по актерской азбуке.
Почти все мужчины освободились от нее, и не случайно движения всех женщин плохи, будто сошли с картины Семирадского, а движения мужчин превосходны.
В театре для того, чтобы двигаться, нужно говорить, потому что он весь дан в слове.
По деревянным мосткам невзрачного белорусского местечка – большой деревни с кирпичным заводом, пивной, палисадниками и журавлями – пробиралась долгополая странная фигура, сделанная совсем из другого теста, чем весь этот ландшафт. Я смотрел в окно вагона, как этот единственный пешеход черным жуком пробирался между домишками через хлюпающую грязь, с растопыренными руками, и золотисто-рыжим отливали черные полы его сюртука. В движениях его была такая отрешенность от всей обстановки и в то же время такое знание пути, словно он должен пробежать «от» и «до», как заводная кукла.
Эка, подумаешь, невидаль: долгополый еврей на деревенской улице. Однако я крепко запомнил фигуру бегущего реббе потому, что без него весь этот скромный ландшафт лишался оправдания. Случай, толкнувший в эту минуту на улицу этого сумасшедшего, очаровательно нелепого, бесконечно изящного, фарфорового пешехода, помог мне осмыслить впечатление от Гос<ударственного> еврейского театра, который я видел незадолго в первый раз.
Да, незадолго перед этим на киевской улице я готов был подойти к такому же почтенному бородачу и спросить его: «Не Альтман ли делал вам костюм?» Я спросил бы так без всякой насмешки, очень искренне: у меня перепутались планы…
Какой счастливый Грановский! Достаточно ему собрать двух-трех синагогальных служек с кантором, позвать свата-шатхена, поймать на улице пожилого комиссионера – и вот уже готова постановка, и даже Альтмана, в сущности, не надо.
Так ли это просто? Конечно, не так. Еврейский театр исповедует и оправдывает уверенность, что еврею никогда и нигде не перестать быть ломким фарфором, не сбросить с себя тончайшего и одухотвореннейшего лапсердака.
Этот парадоксальный театр, по мнению некоторых добролюбовски глубокомысленных критиков объявивший войну еврейскому мещанству и только и существующий для искоренения предрассудков и суеверий, теряет голову, пьянеет, как женщина, при виде любого еврея и сейчас же тянет его к себе в мастерскую, на фарфоровый завод, обжигает и закаляет в чудесный бисквит, раскрашенную статуэтку зеленого шатхена-кузнечика, коричневых музыкантов еврейской свадьбы Радичева, банкиров с бритыми накладными затылками, танцующих, как целомудренные девушки, взявшись за руку, в кружок.
Пластическая слава и сила еврейства в том, что оно выработало и пронесло через столетия ощущение формы и движения, обладающее всеми чертами моды, непреходящей, тысячелетней. Я говорю не о покрое одежды, который меняется, которым незачем дорожить, мне и в голову не приходит эстетически оправдывать гетто или местечковый стиль: я говорю о внутренней пластике гетто, об этой огромной художественной силе, которая переживает его разрушение и окончательно расцветет только тогда, когда гетто будет разрушено.
Скрипки подыгрывают свадебному танцу. Михоэльс подходит к рампе и, крадучись, с осторожными движениями фавна, прислушивается к минорной музыке. Это фавн, попавший на еврейскую свадьбу, в нерешительности, еще не охмелевший, но уже раздраженный кошачьей музыкой еврейского менуэта. Эта минута нерешительности, быть может, выразительнее всей дальнейшей пляски. Дробь на месте, и вот уже пришло опьянение, легкое опьянение от двух-трех глотков изюмного вина, но этого уже достаточно, чтобы закружилась голова еврея: еврейский Дионис нетребователен и сразу дарит весельем.
Во время пляски лицо Михоэльса принимает выражение мудрой усталости и грустного восторга, – как бы маска еврейского народа, приближающаяся к античности, почти неотличимая от нее.
Здесь пляшущий еврей подобен водителю античного хора. Вся сила юдаизма, весь ритм отвлеченной пляшущей мысли, вся гордость пляски, единственным побуждением которой, в конечном счете, является сострадание к земле, – все это уходит в дрожание рук, в вибрацию мыслящих пальцев, одухотворенных, как членораздельная речь.
Михоэльс – вершина национального еврейского дендизма – пляшущий Михоэльс, портной Сорокер, сорокалетнее дитя, блаженный неудачник, мудрый и ласковый портной.
А вчера – на этой же сцене энглизированные жокейские лапсердаки на стройных девушках-танцовщицах, патриархи, пьющие чай в облаках, как старики на балконе в Гомеле.
Яхонтов – молодой актер. Он учился у Мейерхольда, Станиславского и Вахтангова и нигде не привился. Это – «гадкий утенок». Он сам по себе.
Работает Яхонтов почти как фокусник: театр одного актера, человек-театр.
Всех аксессуаров у него так немного, что их можно увезти на извозчике: вешалка, какие-то два зонтика, старый клетчатый плед, замысловатые портновские ножницы, цилиндр, одинаково пригодный для Онегина и для еврейского факельщика. Но есть еще один предмет, с которым Яхонтов ни за что не расстанется, – это пространство, необходимое актеру, пространство, которое он носит с собой, словно увязанным в носовой платок портного Петровича, или вынимает его, как фокусник яйцо из цилиндра.
Не случайно Яхонтов и его режиссер Владимирский облюбовали Гоголя и Достоевского, то есть таких писателей, у которых больше всего вкуса к событию, происшествию.
Игра Яхонтова, доведенная Владимирским до высокого графического совершенства, вся проникнута тревогой и ожиданием катастрофы, предчувствием события и грозы.
Наши классики – это пороховой погреб, который еще не взорвался. Чудак Евгений недаром воскрес в Яхонтове; он по-новому заблудился, очнулся и обезумел в наши дни.
На примере Яхонтова видим редкое зрелище: актер, отказавшись от декламации и отчаявшись получить нужную ему пьесу, учится у всенародно признанных словесных образцов, у великих мастеров организованной речи, чтобы дать массам графически точный и сухой рисунок, рисунок движения и узор слова.
Ничего лишнего. Только самое необходимое. По напряжению и чистоте работы Яхонтов напоминает циркача на трапеции. Это работа без «сетки». Упасть и сорваться некуда.
Чудаковатый портной Петрович кроит ножницами воздух так, что видишь обрезки материи, чиновничек в ветхой шинелишке семенит по тротуару так, что слышишь щелканье мороза, кучера у костров хлопают в рукавицы, а вдруг на тебя медведем навалится николаевский будочник с алебардой или промаячит с зонтиком ситцевая Машенька из «Белых ночей» у гранитного парапета Фонтанки.