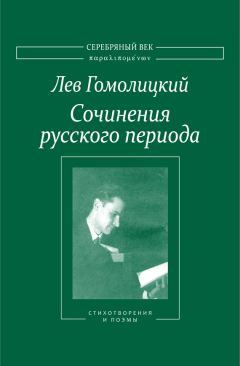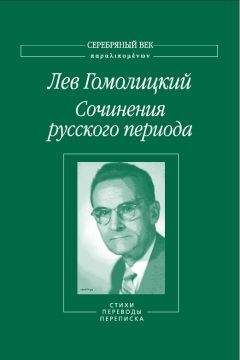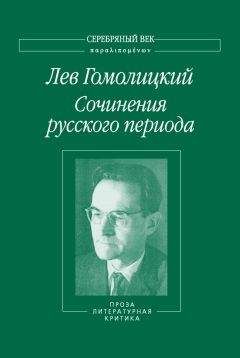Подобно уединистам, «Боженька» также создатель своей собственной, особой религии. Но его учение несет с собой серьезное осмысление и новое утверждение вековечных истин и этических ценностей, а не вышучивание, осмеивание их. В противовес «гордости всепрезрения» кружка юношей он воплощает собой смирение и всепрощение. В следовании идеалам аскетизма он идет до крайности, ютясь «в заброшенной землянке в открытом поле, всегда босой, без шапки, в одной рубашке и белых полотнянных штанах, принимающий от приходящих только хлеб и беседу о Боге». Эксцентрические черты и суждения «уединистов»108 выглядят карикатурой в сопоставлении с его непритязательной подлинностью. И «юродство», и «серьезность» Боженьки оказываются безмерно глубже поведения товарищей автора.
Примечательно, что в главном герое выделены черты, роднящие его с Гомолицким: он в юности дичится людей, погружен в мир книг (к которым, впрочем, потом испытал отвращение), – тогда как в качестве самой яркой иллюстрации бесплодности и кощунственности «уединизма» взяты две стихотворные цитаты из писаний Михаила Рекало (без упоминания, однако, его имени)109. Получается, что гибнущий по фабуле рассказа Боженька и автор-повествователь образуют один идеологический полюс в произведении, а остальные уединисты – другой, противоположный, при том что между обоими полюсами имеются существенные общие черты, главная из которых – представление о буддизме как первооснове религиозного отношения к жизни и убеждение в органическом родстве основных религий. Последний момент приобретает остро драматический характер к концу рассказа, когда Боженька накануне казни, в ответ на требование на допросе назвать своих сообщников-контрреволюционеров, пишет на листе их имена – «Будда, Конфуций, Магомет, Моисей и Иисус из Назарета».
У нас нет данных, чтобы сказать, существовал ли в Остроге «прототип» этого персонажа или он был просто плодом авторского вымысла110. Но это и не имеет значения, если согласиться, что название рассказа Гомолицкого представляет собой не просто отсылку к судьбе городского юродивого, но и употреблено в широком философско-миросозерцательном плане, как характеристика современной действительности («мир опустошенный, не принимающий чуда»). За историей Боженьки и его казни скрывается рассказ об отходе автора, в поисках Бога, от «уединистического» окружения, о разрыве с этим кругом. Символическое, в этом отношении, значение имеет и такая деталь, как приглашение блаженного на первое же заседание «уедсобора». О кружке говорится, как если бы его существование каким-то таинственным образом одушевлено было присутствием осмеиваемого его участниками «Боженьки». Распад кружка совпадает с гибелью главного героя.
Произведение построено на сложной сетке тонких, ненавязчивых сопоставлений и параллелей, сближений и контрастов. Она охватывает даже элементы фонетической организации текста. Так, вопрос о Будде, лежащем под платаном, получает неожиданный отзвук в парономастической игре в следующем сразу за ним абзаце: «Помню <...> низкую кухню с окнами под потолком, на уровне с садом, плиту, заваленную пальто». Но, конечно, существеннее то, что в рассказе, названном «Смерть бога», речь идет о сохранении учения Боженьки после его казни, о его ученической тетради с записями мыслей, которую сам он считает «вечной книгой» и которая, по словам повествователя (одного из «отцов уединизма»), сделалась «моим тайным евангелием»111. Вообще можно полагать, что и Боженька с его исканиями, мыслями и характеристиками, и «уединисты», и повествователь в разной степени воплощают разные грани характера и духовного облика самого автора в молодости, каким он виделся самому себе спустя десять лет, когда рассказ был создан. К «уединизму» Гомолицкий обратился тогда же в нескольких прозаических сочинениях, опубликованных в таллиннской Нови и выборгском Журнале Содружества, которые были фрагментами задуманного, но брошенного на полпути романа. Михаил Рекало промелькнул в первоначальных вариантах поэмы «Сотом вечности» (1936), посвященной судьбе поколения, которому (в отличие от старшего и младшего) достались «высот над миром чистые скрижали». Однако при публикации поэмы в 1937 г. кусок об «уединизме» был существенно сокращен112. В устраненном при публикации тексте фигурировал неологизм «совидец», данный названием большому автобиографическому роману в стихах, к которому Гомолицкий приступил в 1937-38 гг. и над которым работал во время Второй мировой войны. В этом романе, как и в «Смерти бога», резко проведен контраст между автором-повествователем (рисуемом в третьем лице и определяемом как «герой», «подвижник», который «нечистой мысли не изринет», «богослов», приближающийся к «святости») и товарищами по кружку, «богохулами», которые погрязли в «попойках мрачных» и «в грехе своем кромешном / творят веселые дела». Выясняется, что Гомолицкий и Михаил Рекало были двумя из трех основателей движения и друг друга именовали «отец»113. «Уедсобор» изображен как шутейское сборище, большой розыгрыш, молодая забава, отталкивающая не по годам серьезного «героя» (т. е. самого Гомолицкого). В отличие от «Смерти бога», в «Совидце» нет персонажа, сколь-нибудь соответствующего «Боженьке», зато мелькает портрет не известного нам третьего (помимо Гомолицкого и Рекало) «апостола уединизма», по-видимому, главного среди трех, который
открыл векам уединизм –
практическое становленье
богов и равных им ученье
– рыжебородого основателя движения, «отрока с гривой золотой», «златоуста», принявшего «обет сурового молчанья»114, и отчетливее раскрыта (хотя и в более ироническом регистре) тогдашняя «синтезирующая» религиозная позиция автора, бросающего уединизм во имя «последнего отъединенья», чтобы
в мечте хотя бы стать пророком
смесив писанья всех веков –:
Да Хйо Манавадхармашастра
Коран Абот Таотекинг115
Группа «Четки» еще продолжала собираться, когда Гомолицкий в феврале 1926 года обратился к Бему с просьбой о приеме в пражский «Скит поэтов». В июне 1926 г. А.Л. Бем, а за ним Болесцис уведомили Гомолицкого об удовлетворении его просьбы и принятии его в члены «Скита». Гомолицкий был единственным «членом-корреспондентом» пражского кружка. С этого момента «Прага» становится главным «собеседником» молодого поэта, посылающего туда едва ли не все свои стихотворные произведения и ждущего оттуда отклика на свои новые вещи. Некоторые из них были зачитаны на собраниях «Скита», предполагалась публикация стихотворения или стихотворений Гомолицкого в журнале Своими Путями, который, однако, закрылся прежде, чем эта публикация состоялась, и несколько стихотворений намечалось включить в первый коллективный сборник «Скита», предполагавшийся к выходу весной 1927 года, но не вышедший. Указание «Скит» – иногда вкупе с «Четками» – стало сопровождать подпись Гомолицкого в его печатных выступлениях второй половины 1920-х годов. Между тем альянс этот не был по-настоящему тесным; «скитовцы» не спешили вступать с провинциалом в тесный контакт и относились к его работе без особого энтузиазма. Даже отзывы А.Л. Бема (письма которого до нас не дошли), при всем интересе его к Гомолицкому и сочувствии к его исканиям, казались поэту «щадяще»-лапидарными и недостаточно откровенными. Лучший из представителей молодой поросли «Скита» Вячеслав Лебедев в 1960-е годы вспоминал: «К старшему поколению нужно отвести еще поэта Л. Гомолицкого116, “иностранного” члена “Скита”, присылавшего время от времени свои стихи из Польши. Получал и читал их всегда сам А.Л. Бем, который знал автора еще по Варшаве, где жил перед приездом в Прагу. Несмотря на обычную защиту шефа “Скита”, правда не особенно энергичную, стихи Гомолицкого принимались скитниками довольно холодно: в них как-то не было ни современных чувств, ни современной жизни»117.
При том, что внешним толчком для обращения к Бему в феврале 1926 года о приеме в «Скит» могла быть предполагавшаяся Гомолицким близость «религиозного» толкования сущности искусства, письмо его свидетельствует о наличии у молодого поэта собственной амбициозной программы оживления и обновления версификационных возможностей, находящихся в распоряжении русской поэзии. Сообщая о работе над своей «Книгой Книг» (1921-1925), которая писалась как «дневник стихами», Гомолицкий добавлял:
Занимался я довольно много теорией стихотворчества, хотя и не могу последовательно работать над собой в этой области. Мне кажется, что русское стихотворчество находится в своем детском периоде. Содержания много, много пережито во всех областях, а средств выражения почти нет. Взять хотя бы музыкальное ударение (о нем забыли, а Крылов им пользовался, и у Лермонтова: скажи-ка, дядя, ведь недаром и т.д.) или ударяемые гласные, как у Блока: идут, идут испуганные тучи. Или разве исчерпаны все тонические размеры ямбическою и дактилическою строкою, да и многое, очень многое, включая силлабическую систему, почему-то считающуюся недостойной русского языка.