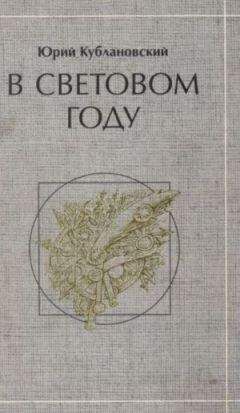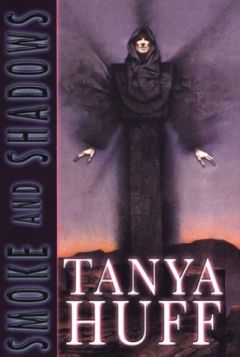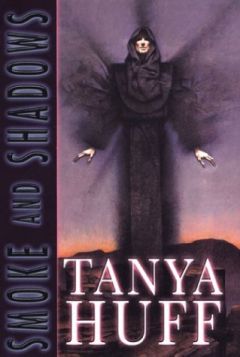«Пока беспокойный рассолец…»
Пока беспокойный рассолец
в крови моей всё голубей,
и я, как к полку доброволец,
приписан к словесности сей.
И морок мелодии, лада
— свободы моей зодиак.
Не надо, не надо, не надо
и думать, что это не так.
Искусство сродни любомудру,
который, сбежав с кутежа,
почил от простуды поутру,
с княгиней впотьмах ворожа.
Мечтатель в открытой манишке
к любимой бежал через двор
и вдруг — уподобился льдышке
и Музу не видит в упор.
Враз суетен и неотмирен поэт,
на недолгом веку
у замоскворецких просвирен
и галок учась языку.
Белка лапкой-грабкой стучит в стекло,
по которому целый день текло.
Я один в своей конуре, и мне
машет ель седым помелом в окне.
Поминаю тех, с кем свела судьба,
кто полег, меня обойдя, в гроба —
и чубастый гений с лицом скопца,
и другой угрюмый ловец словца.
Как когда-то за бланманже барон
Дельвиг пообещал, что он
повидаться явится, померев,
за чекушкой — то же и мы… Нагрев,
так никто с тех пор и не подал знак,
не шепнул товарищу: что и как
там — но глухо молчат о том.
Так что я все чаще теперь с трудом
уловляю воздух по-рыбьи ртом,
осеняясь в страхе честным крестом,
по сравненью с ними, считай, старик
и ищун закладок в межлистье книг.
Горстка нас — приверженцев их перу,
да и ту, пожалуй, не наберу.
Проще на дорожку из здешних мест
собирать по крохам миры окрест.
Под парусами снежных осыпей
с простертых лап, когда светает
или становится еще темней,
куда ж нам плыть?.. Никто не знает.
Одни по насту задубелому
целенаправленно дворняжки
бегут, как — черные по белому —
из той прославленной упряжки,
когда по снежным дюнам Арктики, г
де день еще не начинался,
при полыхании галактики
Колчак на помощь Толлю мчался.
И заносили хлопья крупные
буссоль, планшеты, строганину.
Во сне и под двумя тулупами
знобит — или толкает в спину
невероятное грядущее
с его любовью,
с послерасстрельною, несущею
стремниной — подо льдом — к зимовью.
Багровый, добела оранжевый
в снегах покорных,
должно быть, оторвался заживо
от тех — что возле чудотворных,
то в чаще навсегда скрывается,
то вдруг соскальзывает с ветки,
то нестерпимо разгорается
в грудной, тряпьем накрытой клетке,
на склонах кладбища — под стать крылу —
дрейфует огонек купины.
И стало слышно где-то около,
как раскатились в детстве по полу
рождественские мандарины.
Тишина, озвученная лаем,
мы его дословно понимаем,
запросто берусь перевести
про войну миров — и пораженье
нашего, чье кратное круженье
у вселенной было не в чести.
Поминают сплётные дворняжки
из давно распущенной упряжки
огонек последней из застав,
где когда-то грешники спасались.
А по хвойным лестницам метались
белки, сатанея от забав.
…Кто про те вселенские разборки
нынче помнит — разве в военторге
окружном некупленный погон.
Ты тогда пронизывала косу
алой змейкой, стало быть, к морозу
царственному, словно Соломон.
Той фосфоресцирующей ночью
волны снега притекли воочью
на крыльцо.
Кто-то вдруг вошел, сутуля крылья,
раз — и вынул сердце без усилья,
отвернув слепящее лицо.
С той поры сказитель и начетчик,
я еще и классный переводчик
хоть с, увы, не редких языков:
грай вороний стал мне люб и внятен,
в тишине всё меньше белых пятен
в серый-серый день без облаков.
Правда, разумею много хуже
пересудов бобиков о стуже
человеков выспренний глагол.
Но и их — сметливых и убогих
понимаю, пусть не всех, но многих
с хрипотцой из самых альвеол.
Сто лет назад не смог проснуться
среди зимы.
Напрасно мурка возле блюдца…
Вот так и мы.
1
Когда всё белое,
весь мир как целое
еще белей.
Вдруг льды с прорехами,
скрипя, поехали
вдоль поймы всей.
Тылы глубокие,
боры высокие
и — рубежи.
Коль мы на практике о
дни в галактике,
так и скажи.
2
После войны миров,
крепких — по Морзе — слов
больше с врагом не знаемся.
Там за холмом в снегах
и посейчас в бегах:
возле печи спасаемся.
Старый седой полкан,
в обереженьи рьян,
гавкает по призванию.
Будем всю зиму, мать,
квасить и вспоминать
свернутую кампанию.
3
…В самом конце войны
одолевали сны
с тщетной гоньбой за счастием.
Помнишь парад планет
первый за много лет
с нашим с тобой участием?
Кормишь меня с утра
щами из топора;
примем на грудь — и кажется,
что наломали дров
в этой войне миров,
чая, когда уляжется.
6. I. 1998
«В финале столетия — ближе к нулям…»
В финале столетия — ближе к нулям —
в отместку отыгранным в спешке ролям
по ящику видим блондинку в мехах,
наброшенных сверху белья впопыхах,
когда, рассчитавшись с погоней, её
в свое холостяцкое было жилье
привозит застенчивый малый, качок
с зачесом, затянутым в пышный пучок.
Зависла комета за черным окном
и смотрит на ужин мой с кислым вином,
и тут же, минуя мой скудный удел,
уходит на зов галактических тел.
…Захлопну-ка чтиво последних времен —
с обложкою, съехавшей вбок, лексикон.
Потом над свечою кулак подержу
и тьме заоконной ожог покажу.
«Это было рано — еще до инков…»
Это было рано — еще до инков,
потому ни почты, ни дневника;
ни простого четкого фотоснимка
посейчас не найдено с нас пока.
Никаких вещдоков у разночинца,
у глупца, певца из гурьбы калик.
Помню только, грел с твоего мизинца
в серебро оправленный сердолик.
А какие сосны, какие ели,
да на разных уровнях вразнобой,
объяснялись лапами как хотели
и о чем хотели между собой!
И когда в галактике жизнь кончалась,
ты, её слезинкою осоля,
с нашей общей помощью облачалась
на ночь в платье голого короля.
Благо окна были в репье мороза
плюс туда ж слетевшаяся щепа
из давно закрытого леспромхоза
со звезды, что стала на свет скупа.
В прошлом — только бобики хрипло лают.
А теперь — пространство перекроя,
челноки космические снимают
ледяные сливки с небытия.
«Далеко-далече за снежной осыпью…»
Далеко-далече за снежной осыпью,
и другой, и третьей — мой старый дом.
Там ты мне примстилась, должно быть, сослепу
в котелке ли, шляпе с цветным пером.
Это я останусь без эпитафии,
а про ладно скроенное твое
есть в отлично изданной монографии
«Человек и его шмутьё».
…Шла война миров, будто русских с галлами,
обмороженными опять.
И земля с пустынными терминалами
не могла ни выиграть, ни проиграть.
Хоть её прилизанные приказчики,
обдавая вежливым холодком,
развозили по адресатам ящики,
ну а в них — Калашниковы рядком.
Где и кто в ту пору сидел на троне,
не припомню точно, кажись, не свой.
В обреченном прифронтовом районе
у забытой Богом передовой
я лазутчик был похитрей Емельки
и тебе не смел доверять вполне,
но балдел уже от одной бретельки,
что держала чашечку на волне.
31. I.1998
«Когда не то чтобы бессильное…»