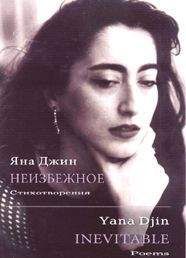(Пер. Вл. Гандельсман)
КРЕЩЕНДО
Плач Марии Магдалины по Иисусу
Слишком долго! Короче, короче давай, не дли.
Вроде крика чайки, крика её вдали.
Ту сермяжную правду, что в гору, в гору, в пыли,
тащит задницу, — в задницу и пошли.
Ту сермягу, что в гору, с крестом, в пыли,
нерадивым шагом, шагом, подмётки стоптав… Мели
раболепное что-нибудь, кланяйся господам земли.
Не водись с делягами: все они там врали.
Пусть рядят и судят, рядят и судят. Ей-ей,
лучше быть одному, одному, чем пасти свиней
иль, скосив глаза, глаза с высоты своей,
с высоты распятья услышать: «Распни, убей!»
Лучше cкука, чем дрожь или смерть. Глупей
быть трагической ложью, чем просто никем. Ничей.
Для Того, Кто «Мой!» шипит, не зная что из очей
вдруг пролил?сь, — и нет её горячей.
Будь уж лучше как пращур, пращур Твой Авраам,
что во гневе сына волок: «Предам,
как ягнёнка его огню, мол, я предан Тебе…» — а там
сын, глядишь, убёг под шумок, и — никто за ним по пятам.
(Пер. Вл. Гандельсман)
На Рождество мир посторонний весь
составлен из полярных отстояний.
Как если б грунт под красками исчез,
оставив на холсте лишь боль. Или сплошное ликованье.
И привкус — то горчит во рту, а то всё сластит рот.
И запах — то далёкий, то наоборот.
И напролёт на Рождество одни рыдают, а другие нет —
хохочут. Все, как псы, слепы на третий цвет.
* * *
За городской чертой, в кофейне мексиканской,
никто не думает горланить, гимны распевать.
Под тихий перезвон стаканов с не-шампанским
тут вспоминают тихо что приятно вспоминать.
Но в каждой позе замкнуто какое-то пространство.
И каждый, как овца на пастбище, — с собой наедине.
Блаженство на лице у каждого. Блаженство транса.
И ни один из них не восклицает: «Истина в вине!»
* * *
В такую ночь никто не замечает как неустойчив снов узор.
Как мысль густеет постепенно и твердеет.
Как голоса — внутри, снаружи ли — сливаются в единый хор.
И как надежды и иллюзии редеют.
И как сквозь дымку — деревом без кроны — проступает
сама реальность. Память вместе с дымкой отступает.
В такую ночь приходит пониманье,
что начинанью суждено остаться начинаньем
и что судьбы не надо верить обещаньям.
* * *
В конце моей же улицы, в одном из зданий,
В окне, пульсирующем светом ёлки новогодней,
мужчину вижу. И камин. Огня его мерцанье.
Её ещё. Жену… Вино не сделало её свободней.
В глазах её — подобострастье. Не любовь.
В рождественскую эту ночь у них — по прежней паре глаз.
Один — для правды, а другой — для лживых фраз.
Христос родился, но они не понимают вновь —
погас светильник жизни в них иль не погас.
* * *
Рождественская ночь застала всех врасплох,
кa? некогда застала жизнь. Зачем — неясно.
Звезда зажглась неровным светом. А потом был вздох.
Ещё потом она погасла.
Между двумя скалистыми холмами
блестел когда-то ручеёк. Он убывает.
Дитя моё, что не даёт рожденья —
убивает.
* * *
За эту ночь рождественскую снег не выпал.
И белизна его не приглушила боли, всхлипов.
Ничто с небес не опустилось для покрытия вины.
Один лишь Авель, как послышалось, вымаливал прощенье
за брата Каина у Бога. Или он к отмщенью
призвал Его в такую ночь — без белизны?
Когда казавшееся сложным банальнейшее из значений
вдруг выказало. Как — окно с неоновым свеченьем.
* * *
Ещё послышалось — младенец белоснежный плакал в эту ночь
Под чёрным небом с вытканной на нём единственной звездой —
Той самою, что Времени не тратит моль.
И в дважды мною проклятом уменьи
смотреть на всё вторичным зреньем
Я разглядела, что вдали зияет боль.
Она помочь
сумела мне в воспоминаньи
моих истраченных переживаний.
Она навеяла, что тьма чистейшая и есть чистейший свет.
А я в ответ
вскричала «Прочь
от этой истины беги, Мария! И плодись!»
Поскольку истины любые к воображённой лжи свелись.
* * *
В ту ночь я убежала далеко.
Насколько было мочи.
А небосвод висел невысоко.
Тяжелый очень.
Я убежала из ночной кофейни,
в которой голубь отдыхал картонноликий
и — дама средних лет, что источала запах кинамона и гвоздики.
Она не видела лица супруга, его поглаживая правою рукой.
Потом он повернулся — и любовь её прошла: сняло рукой.
А я, не поборов себя, безадресным бежала бегом
в ту ночь, не знающую белизны, не знающую снега.
* * *
Между двумя скалистыми холмами
бежал когда-то узкий ручеёк. Он убывает.
Дитя моё, что не даёт рожденья,
убивает.
У ручейка старик сидел. Печалился о юности прожжённой.
Что ложь такое есть? Не лик ли истины воображённой?
(Пер. Н. Джин)
А ЧЕМ ИСТОРИИ ХВАЛИТЬСЯ?!
А чем истории хвалиться?!
Пустою чередой событий,
имён и дат, уменьем длиться
и помнить судьбы тех и лица,
кого в свою взяла обитель.
Ещё хвалиться может ритмом,
лишённой смысла, то есть рифмы.
Бессмысленными мятежами.
И ненадёжными щитами.
И между веками веками
непросыхавшими слезами.
И Избавителями теми,
которые на вид без тени
сомненья или сожаленья —
по сути дела же — в смущеньи
предоставляли избавленье
толпе, просившей не прощенья
и не спасенья во Христе,
а смерти на Его кресте.
(Пер. Н. Джин)
Любовь — одна из вещей, о которых можно сказать всё что угодно, и всё покажется правдой. Чаще всего, впрочем, мне приходилось слышать или читать во всякого рода книгах, — от психологических трактатов до поэзии, — будто любовь есть единственная сила, способная освобождать нас от страхов, навязываемых временем. Это как раз — чистейший вздор. Именно любовь (платоническая и земная) накладывает всякие ограничения; сужает наше обычно рассеянное видение; лишает его равнодушности и придаёт ему такую интенсивность, которую способны вынести лишь немногие. Свободу же приносит нам … нейтральность в восприятии мира. Тех людей, — тоже немногих, — которые обладают ею в избытке, именуют (в зависимости от обстоятельств) то святошами, то евнухами. Они столь начисто лишены заинтересованности в жизни со всеми её перипетиями и переживаниями, что им без усилий удаётся пребывать… над собой.
Их, однако, мало. Остальные — это мы. Те, кто преследуют жизнь с жадностью демонов из нами же сочинённых баек. Мы страдаем и причиняем страдания. Так рождаются стихи — альтернативный способ выражения жалости к себе или стремления к насилию. Подмена более естественной реакции на обстоятельства. Подмена акции. Действия как такового.
Рассуждая с профессиональной точки зрения, любовная лирика — самый восхитительный жанр. Она предоставляет поэту возможность для рискованнейших ставок: шанс на провал тут особенно высок. Если поэту не удалось задеть роднящую всех струну, то каким бы он ни был искусным стихотворцем, итогом окажется страница, испещрённая знаками невротического возбуждения. Знаками, которые следует изучать не читателю, а психиатру. Если же, напротив, эту струну поэт задел, — его ждёт награда, ибо большинство людей, вопреки обычаям и потугам общества, умудряется втиснуть это зовущееся любовью табу в свою жизнь. Пусть и в мизерной дозе.
Любовь — легчайшая мишень для насмешника и сквернослова. Никому из тех, кого подмывает поделиться с другими историей своей любви, забывать об этом нельзя. Всегда же следует помнить, что другим эта история интересна лишь в той мере, в какой они усмотрят в ней собственную. Только в этом случае они снисходительны к тебе — да и то на тот промежуток времени, пока рассудок не вернёт их в быт, где их же карающий перст снова примется изыскивать жертву.
В обществе, в котором мне выпало существовать, в Америке, это лицемерное отношение к любви доведено до смехотворных пропорций. Любовь тут считается если не недугом, то неудобством, аберрацией, обрекающей на боль. Поскольку же боли как раз американцы пуще всего боятся, они и разбираются в любви на уровне поп-чтива. Американцев можно сравнить с лихими армейскими офицерами минувшего столетия, которые обладали достаточным воображением для флирта, но недостаточной выдержкой для его завершения. Американцы вполне благомудры чтобы сознавать, что любовь не привносит в жизнь особого смысла, но не вполне умудрены чтобы признать: без неё жизнь кажется бессмысленной.