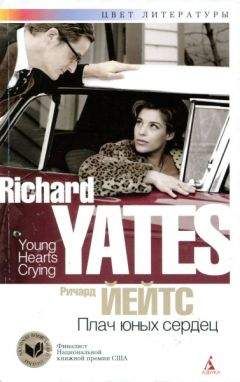Без умолку твердя одно с неутолимым стоном:
О том, что Бог Свои персты простер над небосклоном,
Струя с высот полдневный зной томлений и страстей
Туда, где кружится танцор у неусыпных вод
И спят влюбленные во мгле, не зная расставанья,
Покуда Бог не опалит вселенную лобзаньем…
И под землею он вовек покоя не найдет.
The Man Who Dreamed of Faeryland
He stood among a crowd at Dromahair;
His heart hung all upon a silken dress,
And he had known at last some tenderness,
Before earth took him to her stony care;
But when a man poured fish into a pile,
It seemed they raised their little silver heads,
And sang what gold morning or evening sheds
Upon a woven world-forgotten isle
Where people love beside the ravelled seas;
That Time can never mar a lover's vows
Under that woven changeless roof of boughs:
The singing shook him out of his new ease.
He wandered by the sands of Lissadell;
His mind ran all on money cares and fears,
And he had known at last some prudent years
Before they heaped his grave under the hill;
But while he passed before a plashy place,
A lug-worm with its grey and muddy mouth
Sang that somewhere to north or west or south
There dwelt a gay, exulting, gentle race
Under the golden or the silver skies;
That if a dancer stayed his hungry foot
It seemed the sun and moon were in the fruit:
And at that singing he was no more wise.
He mused beside the well of Scanavin,
He mused upon his mockers: without fail
His sudden vengeance were a country tale,
When earthy night had drunk his body in;
But one small knot-grass growing by the pool
Sang where — unnecessary cruel voice -
Old silence bids its chosen race rejoice,
Whatever ravelled waters rise and fall
Or stormy silver fret the gold of day,
And midnight there enfold them like a fleece
And lover there by lover be at peace.
The tale drove his fine angry mood away.
He slept under the hill of Lugnagall;
And might have known at last unhaunted sleep
Under that cold and vapour-turbaned steep,
Now that the earth had taken man and all:
Did not the worms that spired about his bones
Proclaim with that unwearied, reedy cry
That God has laid His fingers on the sky,
That from those fingers glittering summer runs
Upon the dancer by the dreamless wave.
Why should those lovers that no lovers miss
Dream, until God burn Nature with a kiss?
The man has found no comfort in the grave.
Умолкни, неизбывный сладкий Зов!
Ступай к небесным стражам-овчарам -
Пускай кочуют до конца веков
Тебе вослед сияньями во тьме.
Иль не слыхал ты, что душа стара,
Что ты — в прибое, в шелесте дубов,
И в крике птиц, и в ветре на холме?
Умолкни, неизбывный сладкий Зов!
The Everlasting Voices
O sweet everlasting Voices, be still;
Go to the guards of the heavenly fold
And bid them wander obeying your will,
Flame under flame, till Time be no more;
Have you not heard that our hearts are old,
That you call in birds, in wind on the hill,
In shaken boughs, in tide on the shore?
O sweet everlasting Voices, be still.
Дети Дану смеются в резных золотых колыбелях
И, полуприкрыв ресницы, в ладони весело плещут.
Поскачут они на север, когда позовет их кречет
На белых тяжелых крыльях, с душою оледенелой.
Дитя мое горько плачет, и я его обнимаю,
Целую и слышу голос подземный узкой могилы.
Пустынные ветры стонут над северным морем стылым,
Пустынные ветры бродят над западным алым краем,
Пустынные ветры свищут в воротах Небес, и свищут
В воротах Ада, и гонят души, как клочья дыма;
О сердце, сраженное ветром — ордою неукротимой,
Что слаще сиянья свечей в изножии Девы Пречистой!
Комментарии
Комментарии У.Б. Йейтса:
"Я использовал ветер как символ смутных желаний и надежд — не только потому, что сиды обитают в ветре или что ветер дышит где, где хочет,[18] но и потому, что ветер, дух и смутное желание всегда ассоциируются между собой".
"Боги Древней Ирландии — Туата де Данаан, или Племена богини Дану, либо сиды, от Aes Sidhe или Sluagh Sidhe, народ Волшебных холмов, как обыкновенно объясняют это название, — и ныне разъезжают по стране, как в былые дни. Sidhe на гаэльском также значит «ветер»; у сидов с ветром и впрямь немало общего. Они странствуют на воздушных вихрях, на ветрах, которые в средние века называли пляской дочерей Иродиады, — несомненно, подставив Иродиаду на место некоей древней богини.[19] Заметив, как ветер кружит сухую листву на дороге, деревенские старики крестятся, думая, что это проезжают сиды".
The Unappeasable Host
The Danaan children laugh, in cradles of wrought gold,
And clap their hands together, and half close their eyes,
For they will ride the North when the ger-eagle flies,
With heavy whitening wings, and a heart fallen cold:
I kiss my wailing child and press it to my breast,
And hear the narrow graves calling my child and me.
Desolate winds that cry over the wandering sea;
Desolate winds that hover in the flaming West;
Desolate winds that beat the doors of Heaven, and beat
The doors of Hell and blow there many a whimpering ghost;
O heart the winds have shaken, the unappeasable host
Is comelier than candles at Mother Mary's feet.
Я встану и отправлюсь в путь на остров Иннисфри,[20]
Из красной глины и лозы поставлю дом и стол,
Бобами грядки засажу по счету трижды три,
И стану жить один и слушать пчел.
И там придет ко мне покой, медлительным дождем
Сочась сквозь занавес зари на гладь озерных вод;
Там полдень пурпуром горит, а полночь — серебром,
И коноплянка вечером поет.
Я встану и отправлюсь в путь, куда меня зовет
И днем и ночью тихий плеск у дальних берегов.
На сером камне площадей, на тропке средь болот -
Я всюду слышу сердцем этот зов.
История создания (из «Автобиографии» У.Б. Йейтса)
"[В Лондоне] у меня были приятельницы, к которым я захаживал на чай, главным образом для того, чтобы обсудить свои идеи, которыми я не мог поделиться с другим мужчиной, не столкнувшись с какой-нибудь соперничающей идеей, но отчасти и потому, что их чай и тосты позволяли мне сэкономить несколько пенсов на автобус до дома; однако, за исключением этого доверительного обмена мыслями, с женщинами вообще я был робок и неловок. Однажды я сидел на скамье перед Британским музеем и кормил голубей; неподалеку уселись две девицы и принялись переманивать моих голубей, смеясь и перешептываясь; какое-то время я, кипя негодованием, смотрел себе под ноги, а потом встал и направился прямиком в музей, так и не повернув к ним головы. После я часто задавался вопросом: интересно, они были хороши собой или просто очень молоды? Иногда я тешил себя любовными историями, полными авантюр, в которых мне отводилась роль главного героя, временами провидел для себя путь сурового отшельничества, а порою, смешав два идеала, умерял это суровое отшельничество периодическим впадением в соблазн. Я все еще не расстался с мечтой, поселившейся в душе моей еще в отроческие годы в Слайго, — в подражание Торо поселиться на Иннисфри, маленьком островке посреди озера Лох-Гилл; и вот как-то раз, проходя по Флит-стрит в глубокой тоске по дому, я услышал тихий плеск воды, увидел в витрине какого-то магазина фонтан с мячиком, покачивавшимся на бившей из него струе, и стал вспоминать озерную воду. Из этого неожиданного воспоминания родилось стихотворение “Иннисфри”, первые мои стихи, в ритме которых зазвучало нечто от моей собственной музыки. Я уже начал расшатывать ритм, спасаясь от риторики и того стадного чувства, которое она вызывает, но в то время еще смутно и лишь от случая к случаю понимал, что для избранной мною цели годится исключительно простой синтаксис. Пару лет спустя я бы уже не использовал ни этот традиционный архаизм в первой строке — "arise and go", ни инверсию в последней строке".
The Lake Isle of Innisfree
I will arise and go now, and go to Innisfree,
And a small cabin build there, of clay and wattles made:
Nine bean-rows will I have there, a hive for the honey-bee,
And live alone in the bee-loud glade.
And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow,
Dropping from the veils of the mourning to where the cricket sings;
There midnight's all a glimmer, and noon a purple glow,
And evening full of the linnet's wings.
I will arise and go now, for always night and day
I hear lake water lapping with low sounds by the shore;
While I stand on the roadway, or on the pavements grey,
I hear it in the deep heart's core.
Он вспоминает о своем величии тех времен, когда он пребывал среди созвездий неба[21]
Отведал я эля из Края Вечно Живых[22]
И стал безутешен — мне ведомо все отныне:
Орешником был я,[23] когда средь моей листвы
Изогнутый Плуг и Кормчей звезды[24] твердыню
В небесную высь вознесли в незапамятный год;
Я был тростником — стлался коням под копыта;
Я стал человеком — ветру заклятым врагом,
Ведающим одно: не будет вовек избыта
На груди у любимой его вековая боль,
Губами к ее губам до смерти ему не прижаться.
О звери лесные, о птицы небес, доколь
Любовными вашими криками мне терзаться?
He Thinks of His Past Greatness When a Part of the Constellations of Heaven
I have drunk ale from the Country of the Young
And weep because I know all things now:
I have been a hazel-tree, and they hung
The Pilot Star and the Crooked Plough
Among my leaves in times out of mind:
I became a rush that horses tread:
I became a man, a hater of the wind,
Knowing one, out of all things, alone, that his head
May not lie on the breast nor his lips on the hair
Of the woman that he loves, until he dies.
O beast of the wilderness, bird of the air,
Must I endure your amorous cries?
He Bids His Beloved Be at Peace