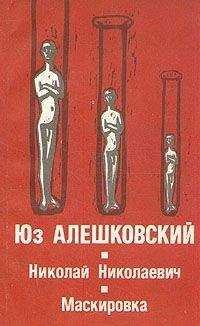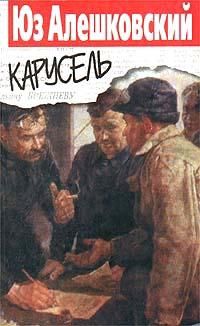class="v"> Хромая на две лапы.
Раз я в Питере с другом кирнул,
Он потом на Литейный проспект завернул,
И все рассказывает, все рассказывает,
И доказывает, и показывает.
– Нет белых чайников в Москве
эмалированных,
А Товстоногов – самый левый режиссер.
Вода из кранов лучше вашей газированной,
А ГУМ – он что? Он не Гостиный Двор.
Вы там «Аврору» лишь на карточках видали,
И Невский – это не Охотный Ряд.
Дурак, страдал бы ты весь век при капитале,
Когда б не питерский стальной пролетарьят! —
А я иду молчу и возражать не пробую,
Черт знает что в моей творится голове,
Поет и пляшет в ней «Московская особая»,
И нет в душе тоски по матушке-Москве.
Я еще в пирожковой с кирюхой кирнул,
Он потом на Дворцовую площадь свернул,
И все рассказывает, все рассказывает,
И доказывает, и показывает.
– У вас в Москве эмалированных
нет чайничков;
Таких, как в Эрмитаже, нет картин.
И вообще, полным-полно начальничков,
А у нас товарищ Толстиков один!
Давай заделаем грамм триста сервелата!
Смотри, дурак, на знаменитые мосты.
На всех московских ваших мясокомбинатах
Такой не делают копченой колбасы. —
А я иду молчу и возражать не пробую,
Черт знает что в моей творится голове,
Поет и пляшет в ней «Московская особая»,
И нет в душе тоски по матушке-Москве.
Я и в рюмочной рюмку с кирюхой кирнул,
Он потом на какой-то проспект завернул,
И все рассказывает, все рассказывает,
И доказывает, и показывает.
– Нет белых чайничков в Москве
эмалированных,
А ночью белою у нас светло, как днем.
По этой лестнице старушку обворовывать
Всходил Раскольников с огромным топором.
Лубянок ваших и Бутырок нам не надо.
Таких, как в «Норде», взбитых сливок ты не ел.
А за решеткой чудной Летнего, блядь, сада
Я б все пятнадцать суток отсидел! —
А я иду молчу и возражать не пробую,
Черт знает что в моей творится голове,
Поет и пляшет в ней «Московская особая»,
И нет в душе тоски по матушке-Москве.
Мотоцикл патрульный подъехал к нам вдруг,
Я свалился в коляску, и рядом – мой друг.
«В отделение!» А он все рассказывает,
И доказывает, и показывает.
– Нет белых чайничков в Москве
эмалированных,
А Товстоногов – самый… Отпустите, псы!
По этой лестнице старушку обштрафовывать…
Такой не делают копченой колбасы…
1966
Это было давно.
Мы еще не толпились в ОВИРе,
но на КПСС надвигался пиздец.
А в Кремле, в однокомнатной
скромной квартире,
со Светланою в куклы играл
самый добрый на свете отец.
Но внезапно она,
до усов дотянувшись ручонкой,
тихо дернула их —
и на коврик упали усы.
Даже трудно сказать,
что творилось в душе у девчонки,
а папаня безусый был нелеп,
как без стрелок часы.
И сказала Светлана,
с большим удивлением глядя:
«Ты не папа! Вредитель,
шпион и фашист!»
И чужой, нехороший,
от страха трясущийся дядя
откровенно признался:
«Я секретный народный артист».
Горько плакал ребенок,
прижавшись к груди оборотня,
и несчастнее их
больше не было в мире людей,
не отец и не друг, не учитель,
не Ленин сегодня
на коленках молил:
«Не губите жену и детей!»
Но крутилась под ковриком
магнитофонная лента,
а с усами на коврике
серый котенок играл.
«Не губите, Светлана!» —
воскликнув с японским акцентом,
дядя с Васькой в троцкистов
пошел поиграть и… пропал.
В тот же час в темной спальне,
от ревности белый,
симпатичный грузин
демонстрировал ндрав:
из-за пазухи вынул
вороненый наган «парабеллум»
и без всякого-якова
в маму Светланы – пиф-паф.
А умелец Лейбович,
из Малого театра гример,