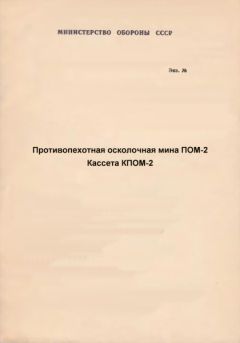Ты огулом казниться рад…
А разберись-ка сам сначала,
Найди, в чем был — невиноват.
Подумай, сядь вот здесь, на камне,
Спроси у сердца своего…»
Опять века… Да что века мне!
Не мог придумать ничего.
Мелькают тени прегрешений —
Гордыня, страх, упорство в зле,
Измена…
О, старик! В измене
Я был невинен на земле!
Пусть это мне и не в заслугу,
Но я Любви не предавал.
И Ей — ни женщине, ни другу —
Я никогда не изменял!
Быть может, надо на пороге
В томленьи ждать еще века —
Лишь об измене нет тревоги,
Лишь от нее душа легка;
К суду готовлюсь — за другое,
И будь что будет впереди!
Но он, дрожащею рукою,
Дверь отомкнул передо мною:
«Суда не будет. Проходи».
Не отдавайся никакой надежде
И сожаленьям, о былом не верь.
Не говори, что лучше было прежде…
Ведь, как в яйце змеином, в этом Прежде
Таилось наше страшное Теперь.
И скорлупа еще не вся отпала,
Лишь треснула немного: погляди,
Змея головку только показала,
Но и змеенышей в яйце не мало…
Без возмущенья, холодно следи:
Ползут они скользящей чередою,
Ползут, ползут за первою змеею,
Свивая туго за кольцом кольцо…
Ах, да и то, что мы зовем Землею,—
Не вся ль Земля — змеиное яйцо?
Февраль 1940
Париж
Как эта стужа меня измаяла,
Этот сердечный мороз.
Мне бы заплакать, чтоб сердце оттаяло,
Да нет слез…
1941
«Тереза, Тереза, Тереза, Тереза…»
Тереза, Тереза, Тереза, Тереза.
Прошло мне сквозь душу твое железо.
Твое ли, твое ли? Ведь ты тиха.
Ужели оно — твоего Жениха?
Не верю, не верю, и в это не верю!
Он знал и Любовь, и земную потерю.
Страдал на Голгофе, но Он же, сейчас,
Страдает вместе и с каждым из нас.
Тереза, Тереза, ведь ты это знала.
Зачем же ты вольно страданий желала?
Ужель, чтоб Голгофе Его подражать,
Могла ты страданья Его умножать?
Тереза, Тереза, Тереза, Тереза.
Так чье же прошло мне сквозь сердце железо?
Не знаю, не знаю, и знать не хочу.
Я только страдаю, и только молчу.
1941 — 1942
«Одиночество с Вами… Оно такое…»
Одиночество с Вами… Оно такое,
Что лучше и легче быть ОДНОМУ.
Оно обнимает густою тоскою,
И хочется быть совсем ОДНОМУ.
Тоска эта — нет!— не густая — пустая.
В молчаньи проще быть ОДНОМУ.
Птицы-часы, как безвидная стая,
Не пролетают — один к ОДНОМУ.
Но ваше молчание — не беззвучно,
Шумы, иль тень их, всё к ОДНОМУ.
С ними, пожалуй, не тошно, не скучно,
Только желанье — быть ОДНОМУ.
В этом молчаньи ничто не родится,
Легче родить самому — ОДНОМУ.
В нем только что-то праздно струится…
А ночью так страшно быть ОДНОМУ.
Может быть, это для вас и обидно,
Вам, ведь, привычно быть ОДНОМУ —
И вы не поймете… И разве не видно,
Легче и вам, без меня — ОДНОМУ.
1941 — 1942
Есть Божий дар. С ним жизнь милей и краше.
Ясней нам правда — и обман.
Не всем, не каждому в юдоли нашей,
А только избранным он дан.
Но светит всем. И, благостно сияя,
Овит такою тишиной,
Что даже ангелы, на мир взирая,
Завидуют ему порой.
Лучей его боится не напрасно
Земная, злая темнота.
И этот дар, прекрасный из прекрасных,—
Святая Доброта.
Ноябрь l942
Париж
«Я больше не могу тебя оставить…»
Я больше не могу тебя оставить.
Тебе я послан волей не моей:
Твоей души, чтоб душу жечь и плавить,
Чтобы отдать мое дыханье — ей.
И связанный и радостный, свободно
Пойду с тобой наверх по ступеням,
Так я хочу — и так Ему угодно:
Здесь неразлучные — мы неразлучны там.
1918
Я должен и могу тебя оставить.
Тебе был послан я — но воля не моя.
Я не могу ничем тебя исправить.
И друг от друга мы свободны: ты и я.
Будь с тем — с кем хочешь быть поближе,
Спускайся к ним по шатким ступеням.
А я пойду туда, в St. Genevieve, и ниже,
И встречусь с тем одним, с кем быть хочу и там.
1943
«Когда-то было, меня любила…»
Когда-то было, меня любила
Его Психея, его Любовь.
Но он не ведал, что Дух поведал
Ему про это — не плоть и кровь.
Своим обманом он счел Психею,
Своею правдой — лишь плоть и кровь.
Пошел за ними, а не за нею,
Надеясь с ними найти Любовь.
Но потерял он свою Психею,
И то, что было,— не будет вновь.
Ушла Психея, и вместе с нею
Я потеряла его любовь.
1943
Париж
Закон я помню, помню слово,
Что всем нам надо жить любя,
Любить — не как-нибудь другого,
А совершенно как себя.
О чем забочусь я безмерно,
И что люблю в себе самом —
О том мой долг — нелицемерно
Всегда заботиться — в другом.
Теперь скажу немного грубо,
Но в деликатности-ли суть?
Мне в слове точность, резкость люба,—
Поймут меня когда-нибудь!
Так вот, скажу: пекусь о брюхе —
Да и не только о своем!
А от докучливой старухи,
Что мне и вечером и днем
Бурчит, что надобно о духе
Вперед заботиться,— в ответ
Я отмахнулся, как от мухи…
Не говоря ни да, ни нет.
На харю старческую хмуро
Смотрю и каменем молчу.
О чем угодно думай, дура,
А я о духе не хочу.
1944
«Я был бы рад, чтоб это было…»
Я был бы рад, чтоб это было,
Чтоб так оно могло и быть,
Но чтоб душа у вас забыла
Лишь то, что надо ей забыть.
Не отдавались бы злословью,
Могли бы вы его понять,
И перестали бы любовью
Томленье, сон и скуку звать.
Я ж — ничего не забываю,
Томленьем вашим не живу,
И даже если сплю — то знаю:
Я тот же весь, как наяву.
1944
«По лестнице… ступени всё воздушней…»
По лестнице… ступени всё воздушней
Бегут наверх иль вниз — не все ль равно!
И с каждым шагом сердце равнодушней:
И все, что было,— было так давно…
ПОСЛЕДНИЙ КРУГ
(И НОВЫЙ ДАНТ В АДУ)
«Вскипают волны тошноты нездешней…»
Вскипают волны тошноты нездешней
И в черный рассыпаются туман.
И вновь во тьму, которой нет кромешней,
Скользят к себе, в подземный океан.
Припадком боли, горестно-сердечной,
Зовем мы это здесь. Но боль — не то.
Для тошноты подземной и навечной
Все здешние слова — ничто.
Пред болью — всяческой — на избавленье
Надежд раскинута живая сеть:
На дружбу новую, на Время, на забвенье…
Иль, наконец, надежда — умереть.
Будь счастлив, Дант, что по заботе друга
В жилище мертвых ты не все познал,
Что спутник твой отвел тебя от круга
Последнего — его ты не видал.
И если б ты не умер от испуга —
Нам все равно о нем бы не сказал.
А тот, кто ведал на земле живой
Чернильно-черных вод тяжелое кипенье
И был, хотя бы час, в их тошном окруженьи —
Кто ощущал в себе размерный их прибой,
Тот понял все: он обречен заране
Познать, что там — в подземном океане,—
Там нет ни Времени, ни звуков, только мгла,
Что кучею по черному легла.
Там только грузное ворчанье вод
И вечности тупой круговорот.
Вот Новый Дант в последний Круг пробрался
Один, без спутника,— он очень смел,—
Он наверху чего не навидался!
Едва кой-что в тумане рассмотрел —
Он к одному из тамошних подсел
И начал с ним (на это был он скор)
По-дружески тотчас же разговор.
Тот поднял на него потухший взор,
Сказав с трудом: «Вот странность, и какая!
Не сверху ль вы? Оттуда к нам давно
Не приходили. Впрочем, все равно,
Пускай и не приходят никогда».