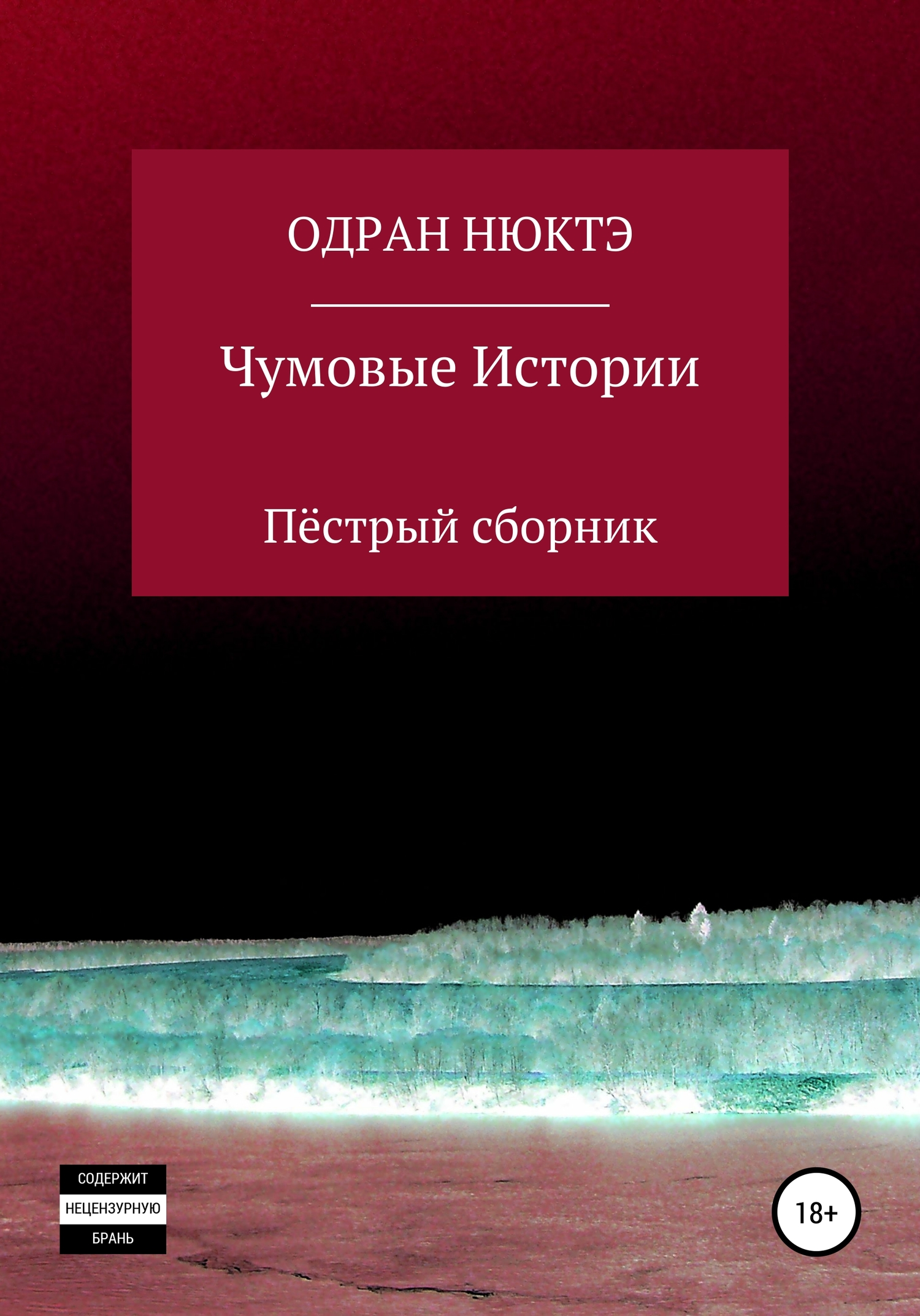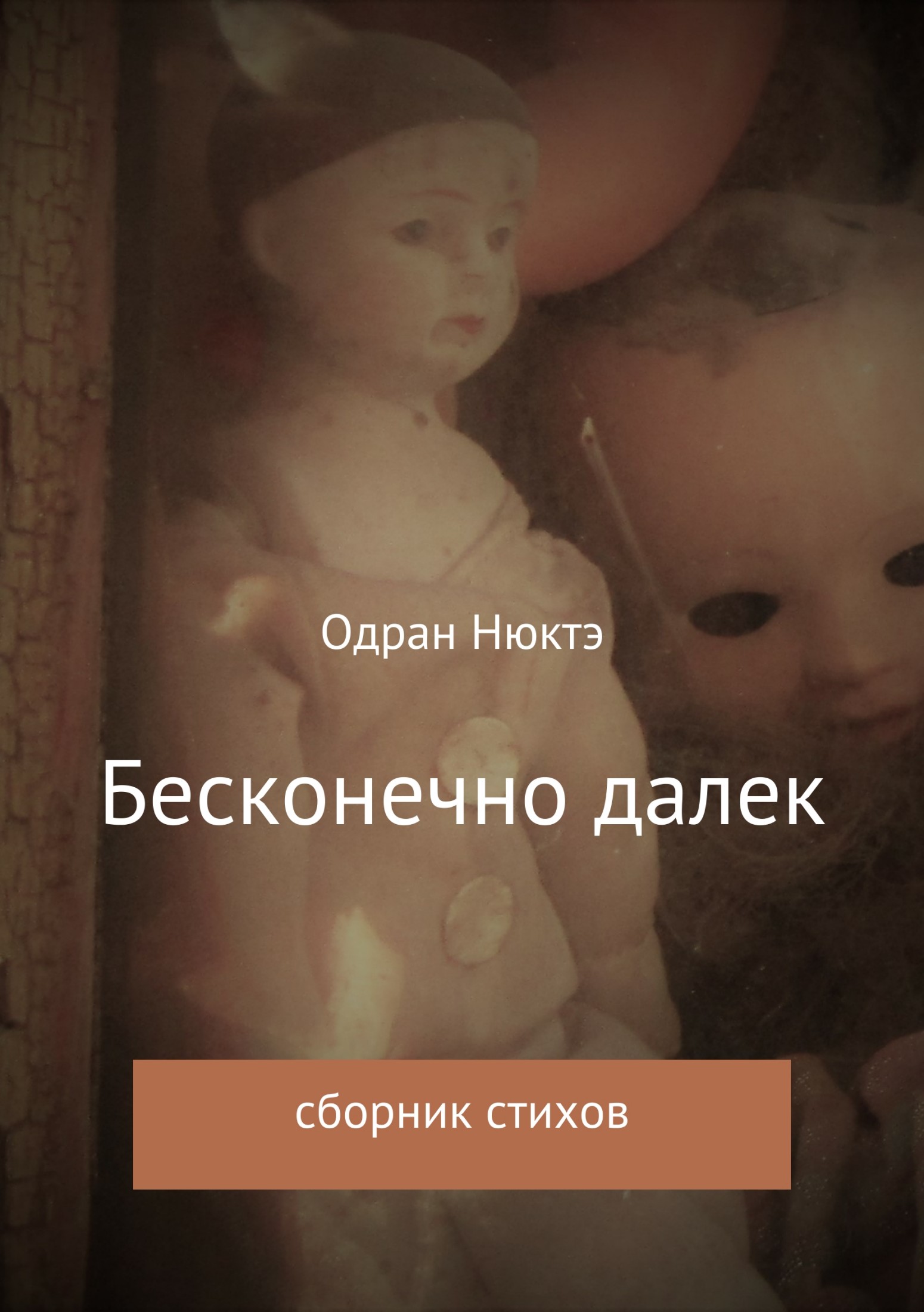Ведь из деревни-то тогда тоже бежал! Мужиков с вилами что ли испугался? Или как?
«Мальчик. Уйди. Прошу по-хорошему. Белка, своди юного Дракулешти в кино, купи мороженое. Заколебал. Я никогда не ошибаюсь. Точка. Щенок. Задел! – мимо! – Упала! – бревнооо! Пришел над мертвым глумиться! Моя порода. Моя. Докопался до мертвяка. Причем докопался без лопаты! Вот заноза в заднице! А руки связаны.»
Тишина. Скрип ржавого креста на холодном ветру. Грай ворон.
– Что? под крестом лежите, сударь? А как же попы…?
Отец Павел с любопытством высовывается в окошко часовни. Крестит перед собой. Зевает. Где-то далеко играет радио. Немецкая волна. Румынский драм н бэйс. Ветром гонимая, пролетела картонка. За нею скакала, тявкая, маленькая черная собачонка. И никто не принес цветы. Первомай еще не скоро. Вот папирос бы кто принес… А мы вам чарку зелья. Испейте!
– Яду? А папирос нет. Мертвым курево не нужно. Мертвым и беседы душеспасительные не нужны!
Голос далеких птиц. Машины на шоссе. Снега на вершине Кэлимана совсем не осталось. Весна в этом году ранняя. Крысы проели ходы в земле.
«Крысы плодятся так же быстро, как люди. Люди – раковая опухоль планеты. Человек! Человек! А! Человек! Человек носится со своею человечностью как не знаю с чем.» Мухи проснулись и слетелись на свежую коровью лепешку.
– Что вы, отец, гораздо быстрее. Крысы плодовитее людей. Да и живучее их. Проблема многих, в том, что живя среди людей и являясь частью человечества, они считают себя живущими либо над ним, либо под ним, ну уж никак не внутри него. Во всяком случае вне. Уж слишком страшно принять, что ты, вот ты, такой уникальный, великий, ужасный, ты ровно такой же, как и другие миллиарды вокруг тебя. Ты думаешь, что это тебе помогает, дает свободу, но это же тебя ограничивает.
«Разве это проблема? Вероятностное свойство. Искажение восприятия. Подмена понятий. Фикция. Софист, сынок, софист. Моя школа!»
Солнце, не покидай плена свинцовых туч. Предметы не отбрасывали теней.
– Знаешь, проблема в том, что это ты носишься со своей исключительностью и нечеловечностью, как не знаю с чем. Быть частью человека – признавать свою природу как принадлежность к биологическому виду, быть частью человечества – осознавать себя частью популяции, в которой ты живешь. А вот отрицать это… Это же сродни отрицанию ошибок. Можно зажмурить глаза и орать на всю улицу, что солнце больше не взойдет, так как я так сказал. Я сказал – темно, и мне темно! Вот видите – темно. (Ты глаза-то открой, солнце) Думаешь, ты всем мешаешь жить, потому что тебя боятся все и вся и ты такой крутой злодей и ты ужасен и опасен и избран судьбой. не… со стороны это выглядит так – ты стоишь посреди оживленного перекрестка, зажмурив глаза и орешь о солнечном затмении. И все вынужденны тебя обходить. А ты еще и руками машешь. И обойти можно не всегда. Поэтому и спотыкаются. Пейзаж его поэзии – пустыня. Он орет, но все глухие. Хотели тебя, болезного, увести в безопасное место, так ты в лоб зазвездил. Так если и глаза закрыть и уши воском залить, легко представить, что один такой посреди пустыни стоишь.
«Интересно, как скоро зацветут каштаны? Иногда лошадей приносили в жертву военным вождям. А иногда королей – убивали на могилах лошадей. Мертвые кобылы так жалобно ржали. Мне жаль лошадей. У женщин влажные глаза лошадей. Женщины прекрасны только со спины. А красота мира ценнее в момент увядания и первых признаках распада. Запах разложения и хрипы умирающих. Моя мантия из строгих трубных нот заката. Призраки Элюара и РэмбО – моя свита».
– Нет, нет, вы говорите, я слушаю. Вы хотите поговорить о Рембо? А о Верлене?
Ветер с гор снова налетел, будто с силой хотел затолкать слова обратно в глотку. Приходилось перекрикивать:
За утренней мглою Сквозят пустыри
Печалью былою Вечерней зари
Печалью былою До края полны
Вечерней зарею Рожденные сны,
Не зная возврата, Нездешние сны,
Они, как закаты Песчаной страны,
Уходят куда-то И гаснут впотьмах
Печальней заката В песчаных холмах.
«Когда-нибудь эти кости распашут трактором. И не заметят. Тонкой струйкой, с талыми водами, я впаду в океан, в это лоно планеты.»
– Мэржы, мэржы! – крикнул по-румынски, думая, что, может, мертвый поймет румынский лучше, чем русский. – Уверен? А что, если выкопают, почтут за останки какого павшего война? Очистят аккуратно, да и в музей краеведческий отдадут? И будешь лежать в стеклянной коробочке на глазах у изумленной публики.
«Снесут на холм, под самое солнышко? Бун. Даже кости пахнут. Горелой краской, железом и бензином. Железо, кровь. Вонь войны. А ведь я был рыцарем. У них на шлемах султаны из хвостов лошадей. На знаменах бунчуки из хвостов собак. Свернул не туда. Айюря! Хитрость пленного: на допросе попытаться выдать себя за итальянца. Домну мя. Чего ни сделаешь? чему были зрителем эти глаза? Черви выели их. Сапоги взял. Бес попутал. Хорошие были сапоги. У меня была красивая лошадь. И красивые сапоги. А у них были танки, зенитки и пулеметы. Драк – это черт по-местному. Знал ли ты? Мальчик, милый, добрый мальчик. Какой язык твоей матери? На каком языке она пела тебе колыбельную?»
– Знаешь, не поверишь… румынский.
«Нельзя дойти зимой без сапог от Сталинграда до Бухареста. Помню, каждый подошел и отдал мне честь.»
– Почему? а валенки на что?
«Какой любознательный мальчик. Ты не здешний? Откуда ты? Из Турдя-дэ-Жус? Из Оради? из Арада? Ты сидишь тут в одиночестве на веселеньком кладбище и болтаешь сам с собою, вслух, уже три часа. Люди променяли мертвого бога на машину. Идола на айфон, но они не изменились внутри. Какой же ты душный. Как один старый плешивый еврей… Как ты нашел дорогу сюда? случаем заскочил, правда? И главный вопрос, фьулуй, букурче, если я приму тебя как сына… Неужели перед людьми ты примешь меня как своего отца? Народ у нас любознательный. И памятливый. Сынок, кррровинушка, а хочешь?..»
Ветер унес окончание вопроса. В монастыре Снагова ни с того, ни с сего зазвенели сами собой колокола. Приборы лаборатории в Крышанах зафиксировали всплеск сейсмоактивности.
Принц Пиявок. Прынцул дэ липитоаря.
Ксандр Заможский уловил обостренным слухом знакомые до боли шаги. Не поверил. Замер в тени. Прокрался следом. Не различил ни дыхания, ни биения сердца. Дверь подалась, заскрипела. В нос садануло замогильное зловоние, запахи корней, сырой земли и гниющей плоти. Гость сидел недвижимо, словно черная гранитная статуя. Глаза мертвеца, остановившиеся в