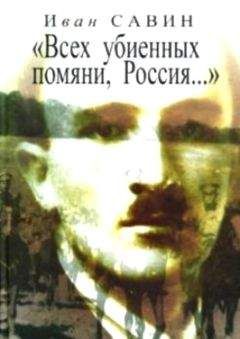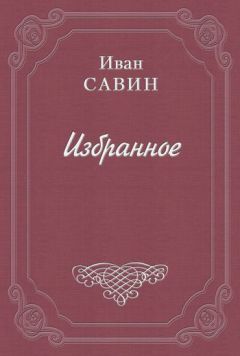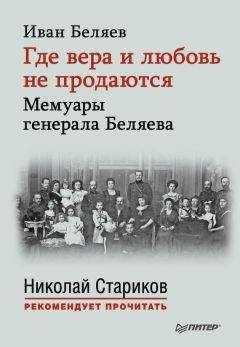Когда я остановился на небольшой площадке, окруженной какими-то казенного типа сараями, и думал: теперь, кажется, направо… вон туда, где трава… — сзади показался разъезд из пяти человек. Кони осторожно ступали по сбитой мостовой, слышался говор. Я прильнул к стене, покрытой тенью колодца, — разъезд проехал мимо, потревожив влажную пыль. У переднего на длинном ремне болтался большой маузер, до бровей спускалась остроконечная шапка. Задний сказал, зевая:
— Никого тут уже нету, товарищи… Айда обратно! — и круто повернул вороного конька…
Только к ночи я попал, наконец, в лазарет и лег в свою кровать, охваченный шестым приступом. Парня с глуповатым, но ехидным лицом не было — он ушел «добывать» табак и сахар; за донцом послали другого санитара — он не нашел его; отложили до утра.
А утром, когда Джанкой уже был занят красными, донца нашли в вагоне с проломленной прикладом головой и раздетого догола. Окровавленное лицо его было кощунственно огажено.
Не пришел больше Наполеон с двумя желтыми пуговицами вместо глаз, с длинной цепью бурых вагонов, не шевелила пупырчатым языком Веста, не наклонялось надо мной белое пятно с красным крестом наверху. Ничего. Только серая, тягучая, липкая пелена плыла перед широко открытыми глазами, да изредка прорывались сквозь нее обрывки чьих-то фраз и хмурые шарики солнца — осеннего, чужого.
— Потому как я красный командир, — сказал кто-то, открывая окно, отчего струя холодного воздуха колыхнулась в палате, — то мине издеся недолго валандаться. Другие прочие, может, в расход, а я — роту даешь! Послужим…
В углу засмеялись. Кажется, Осипов.
— Как же ты — командир, а белым в плен сдался? Подштанников не запачкал? Сморкач ты, а не командир…
Ротный, беспрестанно икая, ответил что-то громко и раздраженно. Взвизгнула за окном гармоника. Прогремело что-то… Как будто броневик. Я приподнялся, вслушиваясь, а серая, тягучая, липкая пелена обвила голову, наливая ее ноющим звоном. Опять лег, тревожно осматривая высокого старика, подходившего ко мне с записной книжкой в трясущихся руках.
«Кто это? — подумал я… Беспокойные, черные глаза… шрам на правом виске… на темно-синем халате белая дорожка слюны… идет, подпрыгивая… — Кто это, Боже?! Не помню…»
Старик погладил спинку моей кровати и зашептал скороговоркой, задыхаясь и брызгая слюной:
— Я вас записал… вот сюда… придут они — я скажу, что вы… вы хотели удрать… а поезда не было… поезда… не просите… таковы законы… не имею права… не просите…
Бессмысленно улыбаясь, я долго смотрел на прыгающие в бреду черные глаза… Полковник Латин… Да, полковник Латин.
— Дайте мне воды, господин полковник… Вот, на столике… Глупости — записывать… Вот… Мне трудно самому… Пожалуйста…
Латин обнял обеими руками графин, уронил его на одеяло, сел на пол и вдруг заплакал, собирая с одеяла воду записной книжкой.
— Задержать противника, а у меня люди… Я им: в цепь!.. Но поймите… задержать… а самурцы…
К ночи он умер — сердце не выдержало. Высокой ли температуры? Дум ли о красной мести?
«На тонкой паутинке колышется сердце человеческое. Качнешь сильнее — и нет его…» (Иннокентий Анненский).
Когда увозили Латина в покойницкую, вздыхали сестры и сдержанно покрикивал доктор, резко похудевший в эти дни, в палату вошел красный офицер, изысканно одетый. Это был первый визит победителей со дня занятия ими Джанкоя.
Сразу все стихло. Санитары опустили тело Латина на первую попавшуюся койку. Старшая сестра — я никогда не забуду Вашей удивительной ласковости, Е.С.! — нервно оправила косынку и прижала к груди руку — маленькую, пухлую, с детскими пальцами.
— Старший врач джанкойского… лазарета, — сказал доктор, для чего-то комкая историю болезни умершего полковника.
Офицер беглым взором окинул палату. Необыкновенно красивое, немолодое уже, с тонкими чертами лицо было замкнуто и спокойно. На зеленой тужурке с орденом красного знамени под нашивным карманом отчетливо выделялась кисть руки изящного рисунка. «Может быть, гвардеец…» — подумал я горько.
— Ага, хорошо… — сказал офицер, слегка картавя. — Кто у вас здесь?
— Пленные…
— Белые, красные?
— Собственно говоря, они все белые… — доктор с досадой кашлянул… — то есть я хотел сказать, что все они служили у Врангеля, но некоторые раньше были в вашей армии.
— В какой?
— В Красной армии…
— Почему же «в вашей»?
— Простите, я ошибся…
— Ага… хорошо… Федор, неси сюда пакет!
Упитанный красноармеец в кавказской бурке, с серебряным кинжалом, но в лаптях («…Господи!» — вскрикнул в углу Осипов) принес из коридора большой сверток, стянутый винтовочным ремнем, и почтительно удалился.
— Вот здесь, — сказал офицер, сухо глядя на доктора, — папиросы, сахар и сушеные фрукты. Раздайте поровну вашим больным. Всем без исключения — и белым, и красным, и зеленым, если у вас таковые имеются. Я сам бывал в разных переделках, так что знаю… Все мы люди… Прощайте!
Круто повернулся на каблуках и направился к дверям, по дороге остановился у безнадежно больного туберкулезом ротмистра Р. и спросил с безучастной сердечностью — бывает такой оттенок голоса, когда кажется, что словами движет не чувство, а долг, которому хочется следовать, обязанность, воспитание:
— Ты в какой части был, братец?
Ротмистр искривил гримасой свои иссиня-черные губы и ответил, хрипло выбрасывая слова:
— В той, которая с удовольствием бы повесила тебя, красный лакей, лизоблюд совдепский. Пошел вон!
Офицер невозмутимо пожал плечами.
— Не нервничайте, это вам вредно! — и вышел…
Доктор принялся развязывать пакет. Больные обступили судорожно кашляющего Р., крича, смеясь и ругаясь. Особенно неистовствовал бывший красный командир:
— Хошь он, видать, и царский охфицер, а душевный человек, с помогай к нам пришел. Надо тоже понятие иметь, сыр ты голландский! Чего окрысился так, спрашивается? Думаешь, поможет? Все одно, не севодни-завтра сдохнешь…
А я… Какая-то скрытая, мучительная правда почудилась мне в ответе ротмистра. Что-то большее, чем раздражение обреченного, было в этих злых словах, в этом презрении полумертвого к обидной милостыне врага, когда-то бывшего, быть может, другом…
По приказу джанкойского коменданта — направлять в его распоряжение всех выздоравливающих — из лазарета ежедневно выбывало по несколько еле державшихся на ногах человек, которых специально присланный санитар отводил на «фильтрацию» в особую комиссию при комендатуре.
Фильтрация заключалась в кратком допросе, долгом истязании, голодовке, заполнении анкет и распределении опрошенных и избитых по трем направлениям: в ряды Красной армии, преимущественно пехоты, в Мелитополь — для дальнейшего выяснения личности (захваченные в плен на юге Крыма направлялись в Симферополь) и на полотно железной дороги — под расстрел. Судя по заслугам перед революцией…
Дней через пять после визига сердобольного военспеца из лазарета были выписаны трое: крестьянин Харьковской губернии Петр Ф., доброволец и потому очень беспокоившийся за свою судьбу, поразительно мяпсой души человек, развлекавший весь лазарет мастерским исполнением известной малороссийской песни на слова Шевченко «Рею тай стогнэ Днипр широкий»; житель города Ставрополя Поликарп Кожухин, за последние шесть лет носивший мундир семи армий: Императорской, Красной, армии адмирала Колчака, Добровольческой — генерала Деникина, петлюровской, польской и Русской Армии — генерала Врангеля, не считая кратковременного пребывания в казачьих повстанческих отрядах и у Махно. Он был заразительно весел, уверял нас, что «жизнь есть колбаса, только надо уметь есть ее с обоих концов сразу», и бодро смотрел в будущее.
Третьим был «Военнообязанный Сав… ин Иван, родивш. 1899 году, бес никакого документу, говорит утерянный, брунетистый, обычного росту». Эту вздорную сопроводительную записку помню до сих пор: на оберточной бумаге, засаленная, с неразборчивой, как будто сконфуженной подписью нашего доктора и крупными каракулями под ней — «писал и зверностю верно удостовиряю комендантский санетар Гаврилов», — в левом углу печать лазарета с двуглавым орлом и короной…
Уходить из лазарета, сразу ставшего близким, уходить на расправу распоясавшейся черни было невыносимо тяжело, да и не исключалась возможность седьмого приступа — по-прежнему остро болела голова. Я жадно, глубоко, искренне жалел о том, что остался жив, и, прощаясь с сестрами, наполнявшими мне карманы провизией и деньгами (некоторое время врангелевские ассигнации еще шли в Крыму, фунт черного хлеба на них стоил 250 рублей, советскими — 150) сказал стыдливым шепотом:
— Если бы у меня был револьвер или яд какой-нибудь… Никогда не был трусом. Но погибнуть в бою или от тифа — это одно, а в чеке…