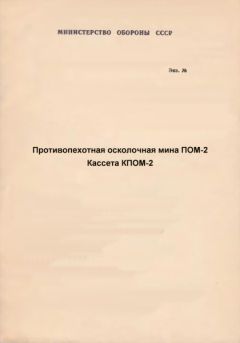Их уверял, что я тому не рад,
Но зло в них чувствуется слишком ясно,
Бороться надо с ним и быть прекрасным.
Я проницателен. Мне удалось
Всё понимать и видеть всех насквозь.
Я говорил, что надо в самом корне
Зло пресекать. Что буду тем упорней
Я с ними спорить, что один я — вещий,
Они ж не понимают эти вещи.
Пожалуй, действовал я слишком смело,
Да не всегда, быть может, и умело…
Но возражений сердце не терпело.
Сказал один какой-то: «Он жесток».
— «Так что ж такое? Это не порок,—
Ответил быстро я. — Жесток наш век,
Жестоким должен быть и человек».
Однако собеседник не унялся
(Впервые, кажется, такой попался!)
И говорит: «Ну, это дело ваше,
Не всем нам пить из той же общей чаши.
Вам — ваше слово обличенья любо,
Мне ж кажутся слова такие грубы.
Другие я люблю в их тишине:
„Кто будет кроток сердцем и смирен…“
Я закричал тогда: „Смиренье — плен!
Я творчески хочу любить и жить!
А можно ли в смирении — творить?“
Тут собеседник мой пожал плечами
И отошел. С улыбкою невольной
Ушел и я, победою довольный.
На этом кончился и спор меж нами.
Но слушайте: признаюсь в первый раз
И говорю лишь только вам, для вас,—
Жесток я не был. Был, скорее, груб.
Особо с тем, кто — видел я — не глуп,
Кто даже не вступал со мною в спор,
Глядел лишь молча на меня в упор,
Чуть улыбался и — не соглашался.
О, с эдаким я вовсе распускался,
И резкостям, и грубостям моим
Уж никакого не было предела.
Но сколько я потом ни бился с ним,
И резкости не улучшали дела.
О том „смиренном“ спорщике моем
Я скоро позабыл. И лишь потом
Раздумался я как-то о смиреньи.
О творчестве своем и назначеньи.
Мне все хотелось допытаться — кто я?
Пророк ли я,иль попросту поэт?
А может, вместе,— то я и другое?
На это надо ж дать себе ответ.
Иль даром мне дано повсюду видеть
Одно ужасное, одно худое,
И обличать везде начатки зла?
Недаром и дано их ненавидеть.
Средь них моя дорога пролегла,
В борьбе я должен вырывать их корни
И чем бороться буду злей, упорней…
Но тут другая мысль вступала: как?
Оружием любви!— я утверждал нередко.
Однако, сам боролся и не так:
Ведь не всегда оружье это метко.
Я о любви говаривал так много!
Не любящих судил особо — строго.
Любил ли сам? Как дать себе ответ?
Казалось — да. А может быть, и нет.
Но очень много о любви мечтал.
Мечтал, что близок час,— его я ждал,—
Когда заветный этот час придет,
А он не может не прийти!— и вот
Я встречусь с той, которую любить
Мне суждено любовью совершенной,
Единственной, святой и неизменной.
Пока же лучше без любви прожить,
Не жалуясь, что и от той далек,
Что издавна в подруги мне дана,
Пусть любит с верностью меня она,
Но что же делать? С ней я одинок.
Ей не нужны мои живые речи,
Не слушает она моих поэм…
Нет, буду ждать иной и новой встречи,
Когда уж полюблю — совсем.
Понравилась однажды мне другая.
Я тоже ей понравился тогда.
Мое влеченье — чисто, как всегда
(Уж если добродетелью какой
Мне похваляться — это чистотой),
Но все ж, влеченье от себя скрывая,
Решил я думать, что ее — спасаю,
Что только ради этого спасенья
И в ней начатков добрых утвержденья,
Ее любовь к себе и принимаю.
Но сам я полюбить ее не мог.
Хоть думалось порою: не она ль?
И вижу — нет. И вновь смотрю я вдаль…
Так я и оставался одинок.
Но правду ежели сказать — я им,
Вот этим одиночеством моим,
Совсем не очень даже тяготился:
Скорее, в глубине души, гордился.
Святые жили же одни в пустыне
И не считали, при своем смиреньи,
Что это — одиночество гордыни
Иль, вообще, что это некий грех,
Но каждый, вероятно, в ощущеньи
Считал себя,— как я же — лучше всех.
Совсем не понимал я слова „друг“.
Кто мог мне другом быть из тех, вокруг?
Я обличал их, я боролся с каждым,
И к дружбе с ними не имел и жажды.
Был, впрочем, случай… Только я не знаю,
Сумею ль это рассказать я вам?
Дружил я раз… И друг мой, не скрываю,
Вначале был мне — вроде как я сам.
И хоть природно не были мы схожи,
О Главном думали одно и то же.
Но я считал себя всегда в движеньи.
Каком, куда же? Думалось — вперед,
К чему-то новому! Но кто меня поймет?
Не понимал я сам. Притом забвенье
Того, что в прошлом, у меня тогда
В душе так искренно и полно было,
Как будто не случалось никогда.
Еще я помнил, что меня касалось,
Но что моих касалось отношений
С ним, с этим другом,— сразу забывалось.
Должно быть, это враг мой,— Время,— мстило,
Легко из памяти моей стирая
Всё, что хотело, и меня толкая
Прочь от людей. Но вовсе не вперед,
А лишь за ту неверную черту,
Туда, в крутящуюся пустоту,
Где мы теряем прошлого оплот,
Где всё исполнено противоречий,
И где меняется все каждый час…
А уж о верности — там нет и речи…
Однако, вижу,— я запутал вас.
Но подождите, это ничего.
И для меня тут многое туманно,
Уж очень вышло с этим другом странно.
Ведь знал же я давно, что у него,—
В душе и сердце друга моего,—
Все было мне — как раз наоборот:
Он по своей природе верен был,
И в памяти все прошлое хранил…
Но я и это вдруг о нем забыл,
И сделался он для меня — не тот.
Я уж жалел, что был с ним откровенен,
Хоть он и оставался неизменен.
Ну, словом, наступили дни иные,
И стал он для меня — как все другие.
Я убедил себя, что он совсем
Застыл в недвижности. А между тем
Он должен бы, как я, вперед стремиться,
Чтобы творить… Я начал даже злиться.
И как других я прежде обличал
И мерку святости к ним прилагал,
Так начал я и к другу относиться…
Коль он как все — того ж, мол, и достоин,
Лишь я один совсем иначе скроен.
Так дружба наша и сошла на нет.
Во мне едва ее остался след.
Он, думаю, меня не забывает,
Да ведь ему и Время не мешает,
Оно над ним совсем не знает власти,
А я… Да разве сам я очень рад?
И чем, скажите, тут я виноват?
Не разорваться ж для него на части!
Но о любви он больше понимал,
Чем понимал и знал о ней тогда я.
Я проповедовал любовь к Тому,
О Ком мы с другом столько говорили.
Я утверждал, что все отдам Ему,
И думал, что люблю Его… Не зная,
Что ведь Любовь…. она совсем как боль:
Уж если есть — о ней не забываешь.
Тебя живит она и ест, как соль.
Ее ни с чем иным и не смешаешь,
Но, кажется, я понял — здесь, не там!—
Как обижал я Время и Того,
Кто в дальний мир, на свет, послал меня,
Послал не для судящего огня,
Не для боренья с волею Его…
В меня любви Он искру заложил,
Любви, которою Он сам любил,
Во дни, когда был в мире, между нами.
Я искру не разжег в святое пламя…
Но если сделать это я не мог,
То почему же Он мне не помог?
И вот, я здесь…
Но кончил я рассказ.
Боюсь, что очень утомил он вас.
Я знаю, — приблизительно, конечно,—
Какой вы можете мне дать ответ.
Соседу моему — с каким укором,
И как жестоко, — вы сказали „нет“.
Но я другой. Так будьте же сердечней,
Не убивайте вашим приговором,
Я сам к себе достаточно суров,
И тяжек здешний каменный покров.
Здесь сидя молча, и один, во мгле,
Значение проступков на земле
Я, может быть, преувеличил сам…
Зачем же нужно делать это — вам?
Подумайте: а если я поверю?
Перенесу ль последнюю потерю —
Последнюю надежду — на прощенье?
А это все единой цепи звенья…»
Дант слушал океанца, стиснув губы,
Потом сказал ему, немножко грубо:
«Мой милый друг, напрасны просьбы эти.
Еще не лгал я никому на свете.
Ужель вам первому, в аду, солгу?
Коль не желаешь слушать — так не слушай,
Закрой свои всеслышащие уши,
Но правды не сказать я не могу.
Ведь ты еще не понял ничего!
Ты слово повторяешь: „Я обидел
Того иль тех, но зло я ненавидел…“
Ты обижал — а знаешь ли, Кого?
И слова понимаешь ли значенье?
Нет, цепь твоя цела, все целы звенья…