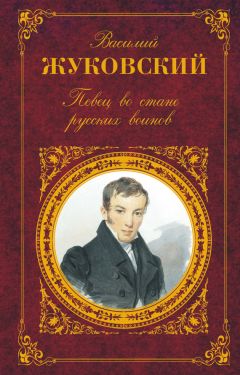‹1822› или ‹1824›
Таинственный посетитель[98]
Кто ты, призрак, гость прекрасный?
К нам откуда прилетал?
Безответно и безгласно
Для чего от нас пропал?
Где ты? Где твое селенье?
Что с тобой? Куда исчез?
И зачем твое явленье
В поднебесную с небес?
Не Надежда ль ты младая,
Приходящая порой
Из неведомого края
Под волшебной пеленой?
Как она, неумолимо
Радость милую на час
Показал ты, с нею мимо
Пролетел и бросил нас.
Не Любовь ли нам собою
Тайно ты изобразил?…
Дни любви, когда одною
Мир для нас прекрасен был,
Ах! тогда сквозь покрывало
Неземным казался он…
Снят покров; любви не стало;
Жизнь пуста, и счастье – сон.
Не волшебница ли Дума
Здесь в тебе явилась нам?
Удаленная от шума
И мечтательно к устам
Приложивши перст, приходит
К нам, как ты, она порой
И в минувшее уводит
Нас безмолвно за собой.
Иль в тебе сама святая
Здесь Поэзия была?…
К нам, как ты, она из рая
Два покрова принесла:
Для небес лазурно-ясный,
Чистый, белый для земли:
С ней всё близкое прекрасно;
Всё знакомо, что вдали.
Иль Предчувствие сходило
К нам во образе твоем
И понятно говорило
О небесном, о святом?
Часто в жизни так бывало:
Кто-то светлый к нам летит,
Подымает покрывало
И в далекое манит.
1824
Поляны мирной украшение,
Благоуханные цветы,
Минутное изображение
Земной, минутной красоты;
Вы равнодушно расцветаете,
Глядяся в воды ручейка,
И равнодушно упрекаете
В непостоянстве мотылька.
Во дни весны с востока ясного,
Младой денницей пробужден,
В пределы бытия прекрасного
От высоты спустился он.
Исполненный воспоминанием
Небесной, чистой красоты,
Он вашим радостным сиянием
Пленился, милые цветы.
Он мнил, что вы с ним однородные
Переселенцы с вышины,
Что вам, как и ему, свободные
И крылья и душа даны;
Но вы к земле, цветы, прикованы;
Вам на земле и умереть;
Глаза лишь вами очарованы,
А сердца вам не разогреть.
Не рождены вы для внимания;
Вам непонятен чувства глас;
Стремишься к вам без упования;
Без горя забываешь вас.
Пускай же к вам, резвясь, ласкается,
Как вы, минутный ветерок;
Иною прелестью пленяется
Бессмертья вестник мотылек…
Но есть меж вами два избранные,
Два ненадменные цветка;
Их имена, им сердцем данные,
К ним привлекают мотылька.
Они без пышного сияния;
Едва приметны красотой;
Один есть цвет воспоминания,
Сердечной думы цвет другой.
О милое воспоминание
О том, чего уж в мире нет!
О дума сердца – упование
На лучший, неизменный свет!
Блажен, кто вас среди губящего
Волненья жизни сохранил
И с вами низость настоящего
И пренебрег и позабыл.
1824
В двенадцать часов по ночам
Из гроба встает барабанщик;
И ходит он взад и вперед,
И бьет он проворно тревогу.
И в темных гробах барабан
Могучую будит пехоту:
Встают молодцы егеря,
Встают старики гренадеры,
Встают из-под русских снегов,
С роскошных полей италийских,
Встают с африканских степей,
С горючих песков Палестины.
В двенадцать часов по ночам
Выходит трубач из могилы;
И скачет он взад и вперед,
И громко трубит он тревогу.
И в темных могилах труба
Могучую конницу будит:
Седые гусары встают,
Встают усачи кирасиры;
И с севера, с юга летят,
С востока и с запада мчатся
На легких воздушных конях
Один за другим эскадроны.
В двенадцать часов по ночам
Из гроба встает полководец;
На нем сверх мундира сюртук;
Он с маленькой шляпой и шпагой;
На старом коне боевом
Он медленно едет по фрунту;
И маршалы едут за ним,
И едут за ним адъютанты;
И армия честь отдает.
Становится он перед нею;
И с музыкой мимо его
Проходят полки за полками.
И всех генералов своих
Потом он в кружок собирает,
И ближнему на ухо сам
Он шепчет пароль свой и лозунг,
И армии всей отдают
Они тот пароль и тот лозунг:
И Франция – тот их пароль,
Тот лозунг – Святая Елена.
Так к старым солдатам своим
На смотр генеральный из гроба
В двенадцать часов по ночам
Встает император усопший.
‹Январь – март› 1836
‹Из альбома, подаренного графине Ростопчиной›[101]
А. С. Пушкин
Он лежал без движенья, как будто по тяжкой работе
Руки свои опустив. Голову тихо склоня,
Долго стоял я над ним, один, смотря со вниманьем
Мертвому прямо в глаза; были закрыты глаза,
Было лицо его мне так знакомо, и было заметно,
Что выражалось на нем, – в жизни такого
Мы не видали на этом лице. Не горел вдохновенья
Пламень на нем; не сиял острый ум;
Нет! Но какою-то мыслью, глубокой, высокою мыслью
Было объято оно: мнилося мне, что ему
В этот миг предстояло как будто какое виденье,
Что-то сбывалось над ним, и спросить мне хотелось:
что видишь?
1837
Царскосельский лебедь[102]
Лебедь белогрудый, лебедь белокрылый,
Как же нелюдимо ты, отшельник хилый,
Здесь сидишь на лоне вод уединенных!
Спутников давнишних, прежней современных
Жизни, переживши, сетуя глубоко,
Их ты поминаешь думой одинокой!
Сумрачный пустынник, из уединенья
Ты на молодое смотришь поколенье
Грустными очами; прежнего единый
Брошенный обломок, в новый лебединый
Свет на пир веселый гость не приглашенный,
Ты вступить дичишься в круг неблагосклонный
Резвой молодежи. На водах широких,
На виду царевых теремов высоких,
Пред Чесменской гордо блещущей колонной[103],
Лебеди младые голубое лоно
Озера тревожат плаваньем, плесканьем,
Боем крыл могучих, белых шей купаньем;
День они встречают, звонко окликаясь;
В зеркале прозрачной влаги отражаясь,
Длинной вереницей, белым флотом стройно
Плавают в сиянье солнца по спокойной
Озера лазури; ночью ж меж звездами
В небе, повторенном тихими водами,
Облаком перловым, вод не зыбля, реют
Иль двойною тенью, дремля, в них белеют;
А когда гуляет месяц меж звездами,
Влагу расшибая сильными крылами,
В блеске волн, зажженных месячным сияньем,
Окруженны брызгов огненных сверканьем,
Кажутся волшебным призраков явленьем —
Племя молодое, полное кипеньем
Жизни своевольной. Ты ж старик печальный,
Молодость их образ твой монументальный
Резвую пугает; он на них наводит
Скуку, и в приют твой ни один не входит
Гость из молодежи, ветрено летящей
Вслед за быстрым мигом жизни настоящей.
Но не сетуй, старец, пращур лебединый:
Ты родился в славный век Екатерины.
Был ее ласкаем царскою рукою, —
Памятников гордых битве под Чесмою,
Битве при Кагуле[104] воздвиженье зрел ты;
С веком Александра тихо устарел ты;
И, почти столетний, в веке Николая
Видишь, угасая, как вся Русь святая
Вкруг царевой силы, – вековой зеленый
Плющ вкруг силы дуба, – вьется под короной
Царской, от окрестных бурь ища защиты.
Дни текли за днями. Лебедь позабытый
Таял одиноко; а младое племя
В шуме резвой жизни забывало время…
Раз среди их шума раздался чудесно
Голос, всю пронзивший бездну поднебесной;
Лебеди, услышав голос, присмирели
И, стремимы тайной силой, полетели
Нá голос: пред ними, вновь помолоделый,
Радостно вздымая перья груди белой,
Голову на шее гордо распрямленной
К небесам подъемля, – весь воспламененный,
Лебедь благородный дней Екатерины
Пел, прощаясь с жизнью, гимн свой лебединый!
А когда допел он – на небо взглянувши
И крылами сильно дряхлыми взмахнувши —
К небу, как во время оное бывало,
Он с земли рванулся… и его не стало
В высоте… и навзничь с высоты упал он;
И прекрасен мертвый на хребте лежал он,
Широко раскинув крылья, как летящий,
В небеса вперяя взор, уж не горящий.
Ноябрь – начало декабря 1851
«Где ты, милый? Что с тобою?
С чужеземною красою,
Знать, в далекой стороне
Изменил, неверный, мне;
Иль безвременно могила
Светлый взор твой угасила».
Так Людмила, приуныв,
К персям очи преклонив,
На распутии вздыхала.
«Возвратится ль он, – мечтала, —
Из далеких, чуждых стран
С грозной ратию славян?»
Пыль туманит отдаленье;
Светит ратных ополченье;
Топот, ржание коней;
Трубный треск и стук мечей;
Прахом панцири покрыты;
Шлемы лаврами обвиты;
Близко, близко ратных строй;
Мчатся шумною толпой
Жены, чада, обрученны…
«Возвратились, незабвенны!..»
А Людмила?… Ждет-пождет…
«Там дружину он ведет;
Сладкий час – соединенье!..»
Вот проходит ополченье;
Миновался ратных строй…
Где ж, Людмила, твой герой?
Где твоя, Людмила, радость?
Ах! прости, надежда-сладость!
Всё погибло: друга нет.
Тихо в терем свой идет,
Томну голову склонила:
«Расступись, моя могила;
Гроб, откройся; полно жить;
Дважды сердцу не любить».
«Что с тобой, моя Людмила? —
Мать со страхом возопила. —
О, спокой тебя Творец!» —
«Милый друг, всему конец;
Что прошло – невозвратимо;
Небо к нам неумолимо;
Царь Небесный нас забыл…
Мне ль Он счастья не сулил?
Где ж обетов исполненье?
Где Святое Провиденье?
Нет, немилостив Творец;
Всё прости, всему конец».
«О Людмила, грех роптанье;
Скорбь – Создателя посланье;
Зла Создатель не творит;
Мертвых стон не воскресит». —
«Ах! родная, миновалось!
Сердце верить отказалось!
Я ль, с надеждой и мольбой,
Пред иконою святой
Не точила слез ручьями?
Нет, бесплодными мольбами
Не призвать минувших дней;
Не цвести душе моей.
Рано жизнью насладилась,
Рано жизнь моя затмилась,
Рано прежних лет краса.
Что взирать на Небеса?
Что молить неумолимых?
Возвращу ль невозвратимых?» —
«Царь Небес, то скорби глас!
Дочь, воспомни смертный час;
Кратко жизни сей страданье;
Рай – смиренным воздаянье,
Ад – бунтующим сердцам;
Будь послушна Небесам».
«Что, родная, муки ада?
Что небесная награда?
С милым вместе – всюду рай;
С милым розно – райский край
Безотрадная обитель.
Нет, забыл меня Спаситель!» —
Так Людмила жизнь кляла,
Так Творца на суд звала…
Вот уж солнце за горами;
Вот усыпала звездами
Ночь спокойный свод небес;
Мрачен дол, и мрачен лес.
Вот и месяц величавый
Встал над тихою дубравой:
То из облака блеснет,
То за облако зайдет;
С гор простерты длинны тени;
И лесов дремучих сени,
И зерцало зыбких вод,
И небес далекий свод
В светлый сумрак облеченны…
Спят пригорки отдаленны,
Бор заснул, долина спит…
Чу!.. полночный час звучит.
Потряслись дубов вершины;
Вот повеял от долины
Перелетный ветерок…
Скачет по полю ездок:
Борзый конь и ржет и пышет.
Вдруг… идут… (Людмила слышит)
На чугунное крыльцо…
Тихо брякнуло кольцо…
Тихим шепотом сказали…
(Все в ней жилки задрожали.)
То знакомый голос был,
То ей милый говорил:
«Спит иль нет моя Людмила?
Помнит друга иль забыла?
Весела иль слезы льет?
Встань, жених тебя зовет». —
«Ты ль? Откуда в час полночи?
Ах! едва прискорбны очи
Не потухнули от слез.
Знать, тронýлся Царь Небес
Бедной девицы тоскою?
Точно ль милый предо мною?
Где же был? Какой судьбой
Ты опять в стране родной?»
«Близ Наревы дом мой тесный.
Только месяц поднебесный
Над долиною взойдет,
Лишь полночный час пробьет —
Мы коней своих седлаем,
Темны кельи покидаем.
Поздно я пустился в путь.
Ты моя; моею будь…
Чу! совы пустынной крики.
Слышишь? Пенье, брачны лики.
Слышишь? Борзый конь заржал.
Едем, едем, час настал».
«Переждем хоть время ночи;
Ветер встал от полуночи;
Хладно в поле, бор шумит;
Месяц тучами закрыт». —
«Ветер буйный перестанет;
Стихнет бор, луна проглянет;
Едем, нам сто верст езды.
Слышишь? Конь грызет бразды,
Бьет копытом с нетерпенья.
Миг нам страшен замедленья;
Краткий, краткий дан мне срок;
Едем, едем, путь далек».
«Ночь давно ли наступила?
Полночь только что пробила.
Слышишь? Колокол гудит». —
«Ветер стихнул; бор молчит;
Месяц в водный ток глядится;
Мигом борзый конь домчится». —
«Где ж, скажи, твой тесный дом?» —
«Там, в Литве, краю чужом:
Хладен, тих, уединенный,
Свежим дерном покровенный;
Саван, крест и шесть досток.
Едем, едем, путь далек».
Мчатся всадник и Людмила.
Робко дева обхватила
Друга нежною рукой,
Прислонясь к нему главой.
Скоком, лётом по долинам,
По буграм и по равнинам;
Пышет конь, земля дрожит;
Брызжут искры от копыт;
Пыль катится вслед клубами;
Скачут мимо них рядами
Рвы, поля, бугры, кусты;
С громом зыблются мосты.
«Светит месяц, дол сребрится;
Мертвый с девицею мчится;
Путь их к келье гробовой.
Страшно ль, девица, со мной?» —
«Что до мертвых? что до гроба?
Мертвых дом земли утроба». —
«Чу! в лесу потрясся лист.
Чу! в глуши раздался свист.
Черный ворон встрепенулся;
Вздрогнул конь и отшатнулся;
Вспыхнул в поле огонек». —
«Близко ль, милый?» – «Путь далек».
Слышат шорох тихих теней:
В час полуночных видений,
В дыме облака, толпой,
Прах оставя гробовой
С поздним месяца восходом,
Легким, светлым хороводом
В цепь воздушную свились;
Вот за ними понеслись;
Вот поют воздушны лики:
Будто в листьях повилики
Вьется легкий ветерок;
Будто плещет ручеек.
«Светит месяц, дол сребрится;
Мертвый с девицею мчится;
Путь их к келье гробовой.
Страшно ль, девица, со мной?» —
«Что до мертвых? что до гроба?
Мертвых дом земли утроба». —
«Конь, мой конь, бежит песок;
Чую ранний ветерок;
Конь, мой конь, быстрее мчися;
Звезды утренни зажглися,
Месяц в облаке потух.
Конь, мой конь, кричит петух».
«Близко ль, милый?» – «Вот примчались».
Слышат: сосны зашатались;
Слышат: спал с ворот запор;
Борзый конь стрелой на двор.
Что же, что в очах Людмилы?
Камней ряд, кресты, могилы,
И среди них Божий храм.
Конь несется по гробам;
Стены звонкий вторят топот;
И в траве чуть слышный шепот,
Как усопших тихий глас…
Вот денница занялась.
Что же чудится Людмиле?…
К свежей конь примчась могиле,
Бух в нее и с седоком.
Вдруг – глухой подземный гром;
Страшно доски затрещали;
Кости в кости застучали;
Пыль взвилася; обруч хлоп;
Тихо, тихо вскрылся гроб…
Что же, что в очах Людмилы?…
Ах, невеста, где твой милый?
Где венчальный твой венец?
Дом твой – гроб; жених – мертвец.
Видит труп оцепенелый;
Прям, недвижим, посинелый,
Длинным саваном обвит.
Страшен милый прежде вид;
Впалы мертвые ланиты;
Мутен взор полуоткрытый;
Руки сложены крестом.
Вдруг привстал… манит перстом…
«Кончен путь: ко мне, Людмила;
Нам постель – темна могила;
Зáвес – саван гробовой;
Сладко спать в земле сырой».
Что ж Людмила?… Каменеет,
Меркнут очи, кровь хладеет,
Пала мертвая на прах.
Стон и вопли в облаках,
Визг и скрежет под землею;
Вдруг усопшие толпою
Потянулись из могил;
Тихий, страшный хор завыл:
«Смертных ропот безрассуден;
Царь Всевышний правосуден;
Твой услышал стон Творец;
Час твой бил, настал конец».
14 апреля 1808