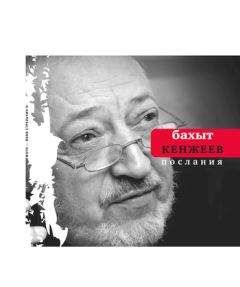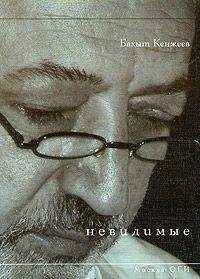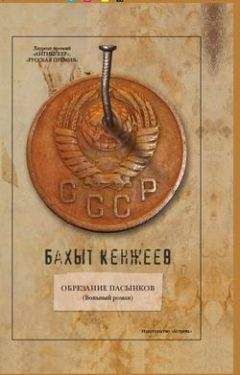«Окраина – сирень, калина…»
Окраина – сирень, калина,
окалина и окарина,
аккордеон и нож ночной.
Кривые яблони, задворки,
враги, подростки, отговорки,
разборки с братом и женой.
Лад слободской в рассрочку продан,
ветшает сердце с каждым годом,
но дорожает, словно дом,
душа – и жителю предместья
не след делиться бедной честью
с небесным медленным дождём,
переживая обложные,
облыжные и ледяные
с утра, с двадцатого числа.
Дорогою в каменоломню
ты помнишь радугу? Не помню.
Где свет? Синица унесла.
Устала, милая? Немножко.
В ушах частушка ли, гармошка,
луной в углу озарена
скоропечатная иконка.
Играй, пластинка, тонко-тонко —
струись, сиянье из окна,
дуй, ветер осени – что ветер
у Пушкина – один на свете,
влачи осиновый листок
туда, где, птицам петь мешая,
зима шевелится большая
за поворотом на восток.
«Ничего, кроме памяти, кроме…»
Ничего, кроме памяти, кроме
озарённой дороги назад,
где в растерзанном фотоальбоме
пожелтевшие снимки лежат,
где нахмурился выпивший лишку
беззаконному росчерку звёзд,
и простак нажимает на вспышку,
продлевая напыщенный тост, —
мы ли это смеялись друг другу,
пели, пили, давали зарок?
Дай огня. Почитаем по кругу.
Передай мне картошку, Санёк.
Если времени больше не будет,
если в небе архангела нет —
кто же нас, неурочных, осудит,
жизнь отнимет и выключит свет?
Дали слово – и, мнится, сдержали.
Жаль, что с каждой минутой трудней
разбирать золотые скрижали
давних, нежных, отчаянных дней.
Так давайте, любимые, пейте,
подливайте друзьям и себе,
пусть разлука играет на флейте,
а любовь на военной трубе.
Ах, как молодость ластится, вьётся!
Хорошо ли пируется вам —
рудознатцам, и землепроходцам,
и серебряных дел мастерам?
«То эмигрантская гитара…»
То эмигрантская гитара,
то люди злые за углом —
душа ли к старости устала
махать единственным крылом?
Запить водой таблетку на ночь,
припомнить древний анекдот…
Знать, Владислав Фелицианыч
опять к рассвету подойдёт.
Снимает плащ, снимает шляпу
и невозможный зонтик свой
в прихожей отряхает на пол,
а там, качая головой,
задвижку на окне нашарит,
шепнёт: «Зачем же так темно?»
и тут же страшный свет ударит
в моё раскрытое окно.
И подымаюсь я с постели,
подобно Лазарю, когда
встают в подоблачном пределе
деревья, звери, города,
где все умершие воскресли,
где время стиснуто в кулак,
где тяжелы земные песни
в ржавеющих колоколах
и над железной голубятней
гуляет голубь в вышине —
и день прекрасней и превратней,
чем мнилось сумрачному мне.
Пошли мне, Господи, горенья,
помилуй – бормочу – меня,
не прозы, не стихотворенья,
дай только горького огня, —
и умолкаю без усилий,
и больше не кричу во сне,
где у окошка мой Виргилий —
худой, в надтреснутом пенсне.
«Пусть вечеру день не верит – светящийся, ледяной…»
Пусть вечеру день не верит – светящийся, ледяной, —
но левый и правый берег травой заросли одной —
пожухлой, полуживою, качающей головой —
должно быть, игрец-травою, а может, дурман-травой.
А солнце всё рдеет, тая, когда выдыхает «да»
река моя золотая, твердеющая вода,
и мокрым лицом к закату слабеющий город мой
повёрнут – хромой, горбатый и слепоглухонемой.
И мало мне жизни, чтобы почувствовать: смерти нет,
чтоб золото влажной пробы, зелёное на просвет,
как кровь, отливало алым – и с талого языка
стекала змеиным жалом раздвоенная строка.
«Половинка яблока. Первый снег…»
Половинка яблока. Первый снег.
Дребезжит, скрежещет усталый век.
Невпопад вопрос, невпопад ответ.
Шелестит за дверью протяжный свет
это я вернулся к своим трудам —
я устал бежать по твоим следам.
«Потому что в книгах старых жизнь ушедшая болит…»
Потому что в книгах старых жизнь ушедшая болит,
всякий миг её в подарок слух и зренье опалит:
вод рассветных переливы, облысевшая гора,
серебристые оливы голубиного пера.
Но чудней всего на свете это озеро, смотри,
где закидывают сети молодые рыбари,
труд и гордость Галилеи – видишь, средь высоких волн
их добыча, тяжелея, накреняет тесный чёлн?
Окликает их прохожий неизвестный человек.
Это сын любимый Божий, друг поэтов и калек.
И на тяжкий подвиг – много тяжелее тех сетей, —
он зовёт во имя Бога незадачливых детей.
И в пророческом зерцале по грядущим временам
ходят ставшие ловцами и заступниками нам,
в вере твёрдой, словно камень, с каждым веком наравне
плещут рыбы плавниками в ненаглядной глубине.
Не горюй, не празднуй труса, пусть стоит перед тобой
чистый облик Иисуса в лёгкой тверди голубой,
пусть погибнуть мы могли бы, как земная красота,
но плывёт над нами рыба – образ Господа Христа.
«Было: мёдом и сахаром колотым…»
Было: мёдом и сахаром колотым – чаепитием в русском дому,
тонким золотом, жаром и холодом наше время дышало во тьму,
но над картой неведомой местности неизвестная плещет волна —
то ли Санкт-Петербург и окрестности, то ли гамма
в созвездии сна, —
и окошки пустые распахнуты в белокаменный вишневый сад,
где игрок в кипарисные шахматы на последний играет разряд.
Пусть фонарь человека учёного обнажил на разломе эпох
что от белого неба до чёрного только шаг, только взгляд,
только вздох,
пусть над явной космической ямою, где планета без боли плывёт,
золотою покрыт амальгамою крутокупольной истины свод,
пусть престол, даже ангелов очередь, – но учителя умного нет
объяснить это сыну и дочери, только свет, улетающий свет.
Вот и всё. Перебитые голени не срастутся. Из облачных мест
сыплет родина пригоршни соли на раны мёртвые, гору и крест,
на недвижную тень настоящего – костяного пространства
оскал, —
отражения наши дробящего в бесконечной цепочке зеркал.
Утро близится. Уголья залиты. Поминальные свечи горят.
На каком ледяном карнавале ты, брат мой давний,
бестрепетный брат?
«…длись же, иночество, одиночество, безответное, словно река…»
…длись же, иночество, одиночество, безответное, словно река,
пусть отчизна по имени-отчеству окликает меня, далека,
всё, чем с детства владею, не властвуя, пусть, приснившись,
исчезнет скорей,
осыпаясь вокзальною астрою в толчее у вагонных дверей, —
я ни с чем тебя не перепутаю – сколько юности плещется
там! —
пролети электричкой продутою по остылым чугунным путям
хоть в Мытищи, хоть в Ново-Дивеево – всё уладится,
только не плачь —
к отсыревшему серому дереву, к тишине заколоченных дач,
и лесным полумесяцем, заново расплетая кладбищенский лён,
над изгибом пути окаянного покаянным плыви кораблём —
только уговори, уведи меня, подари на прощание мне
свет без возраста, голос без имени, золотистые камни на дне…
«Хочется спать, как хочется жить…»
Хочется спать, как хочется жить,
перед огнём сидеть,
чай обжигающий молча пить,
в чьи-то глаза глядеть.
Хочется жить, как хочется спать,
баловаться вином,
книжку рифмованную читать,
сидя перед огнём.
Пламя трещит, как трещит орех.
Лёд на изнанке лет.
Вечной дремоты бояться грех,
и унывать не след.
Грецкий орех и орех лесной.
Пламя моё, тайком
поговори, потрещи со мной
огненным языком,
поговори, а потом остынь,
пусть наступает мгла,
и за углом, как звезда-полынь,
зимняя ночь бела.
«То мятежно, то покорно человеки алчут корма…»
То мятежно, то покорно человеки алчут корма
в неотъемлемой стране, где земельная реформа,
и партийная платформа, и чиновник на коне.
Но спокон веков, дружище, не к одной телесной пище
рвётся сапиенс людской. Он, из бочки выбив днище,
кроме хлеба, также ищет счастье, вольность и покой.
Для подобного предмета есть вакансия поэта
в каждом обществе, и тот, различая больше света,
чем иные (не-поэты), высшей ценностью живёт.
Он не пьёт вина, не курит, тесных стен не штукатурит,
он – духовный агрегат. Иногда он брови хмурит,
руки моет, просит бури, горним трепетом богат.
По себе, должно быть, судя, в повседневном этом чуде
(даже если рифмы в ряд) озабоченные люди,
разрезая дичь на блюде, смысла вещего не зрят.
И при всякой данной власти, не сказав при входе «здрасьте»,
мира дольнего сыны склонны дать ему по пасти,
и частенько бард несчастен, и глаза его влажны.
Но горит над нами Овен и мильон других штуковин,
типа пищи для души. Не хладей же сердцем, воин,
будь насмешлив и спокоен, вирши добрые пиши.
«Что ты плачешь, современник, что ты жалуешься, друг…»