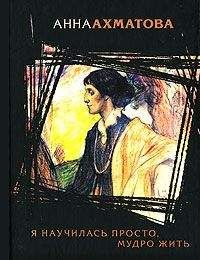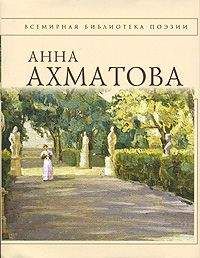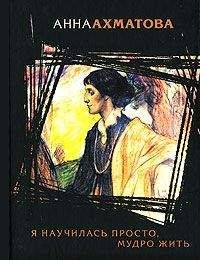«От тебя я сердце скрыла…»
От тебя я сердце скрыла,
Словно бросила в Неву…
Прирученной и бескрылой
Я в дому твоем живу.
Только… ночью слышу скрипы.
Что там – в сумраках чужих?
Шереметевские липы…
Перекличка домовых…
Осторожно подступает,
Как журчание воды,
К уху жарко приникает
Черный шепоток беды –
И бормочет, словно дело
Ей всю ночь возиться тут:
«Ты уюта захотела,
Знаешь, где он – твой уют?»
И город весь стоит оледенелый.
Как под стеклом деревья, стены, снег.
По хрусталям я прохожу несмело.
Узорных санок так неверен бег.
А над Петром воронежским – вороны,
Да тополя, и свод светло-зеленый,
Размытый, мутный, в солнечной пыли,
И Куликовской битвой веют склоны
Могучей, победительной земли.
И тополя, как сдвинутые чаши,
Над нами сразу зазвенят сильней,
Как будто пьют за ликованье наше
На брачном пире тысячи гостей.
А в комнате опального поэта
Дежурят страх и Муза в свой черед.
И ночь идет,
Которая не ведает рассвета.
Il mio bel San Giovanni.
Dante[5]
Он и после смерти не вернулся
В старую Флоренцию свою.
Этот, уходя, не оглянулся,
Этому я эту песнь пою.
Факел, ночь, последнее объятье,
За порогом дикий вопль судьбы.
Он из ада ей послал проклятье
И в раю не мог ее забыть, –
Но босой, в рубахе покаянной,
Со свечой зажженной не прошел
По своей Флоренции желанной,
Вероломной, низкой, долгожданной…
Бывает так: какая-то истома;
В ушах не умолкает бой часов;
Вдали раскат стихающего грома.
Неузнанных и пленных голосов
Мне чудятся и жалобы и стоны,
Сужается какой-то тайный круг,
Но в этой бездне шепотов и звонов
Встает один, все победивший звук.
Так вкруг него непоправимо тихо,
Что слышно, как в лесу растет трава,
Как по земле идет с котомкой лихо…
Но вот уже послышались слова
И легких рифм сигнальные звоночки, –
Тогда я начинаю понимать,
И просто продиктованные строчки
Ложатся в белоснежную тетрадь.
«Я знаю, с места не сдвинуться…»
Я знаю, с места не сдвинуться
От тяжести Виевых век.
О, если бы вдруг откинуться
В какой-то семнадцатый век.
С душистою веткой березовой
Под Троицу в церкви стоять,
С боярынею Морозовой
Сладимый медок попивать,
А после на дровнях в сумерки
В навозном снегу тонуть…
Какой сумасшедший Суриков
Мой последний напишет путь?
«Годовщину последнюю празднуй…»
Годовщину последнюю празднуй –
Ты пойми, что сегодня точь-в-точь
Нашей первой зимы – той, алмазной –
Повторяется снежная ночь.
Пар валит из-под царских конюшен,
Погружается Мойка во тьму,
Свет луны как нарочно притушен,
И куда мы идем – не пойму.
Меж гробницами внука и деда
Заблудился взъерошенный сад.
Из тюремного вынырнув бреда,
Фонари погребально горят.
В грозных айсбергах Марсово поле,
И Лебяжья лежит в хрусталях…
Чья с моею сравняется доля,
Если в сердце веселье и страх.
И трепещет, как дивная птица,
Голос твой у меня над плечом.
И внезапным согретый лучом,
Снежный прах так тепло серебрится.
Все это разгадаешь ты один…
Когда бессонный мрак вокруг клокочет,
Тот солнечный, тот ландышевый клин
Врывается во тьму декабрьской ночи.
И по тропинке я к тебе иду.
И ты смеешься беззаботным смехом.
Но хвойный лес и камыши в пруду
Ответствуют каким-то странным эхом…
О, если этим мертвого бужу,
Прости меня, я не могу иначе:
Я о тебе, как о своем, тужу
И каждому завидую, кто плачет,
Кто может плакать в этот страшный час
О тех, кто там лежит на дне оврага…
Но выкипела, не дойдя до глаз,
Глаза мои не освежила влага.
Я приснюсь тебе черной овцою
На нетвердых, сухих ногах,
Подойду, заблею, завою:
«Сладко ль ужинал, падишах?
Ты Вселенную держишь, как бусу,
Светлой волей Аллаха храним…
И пришелся ль сынок мой по вкусу
И тебе и деткам твоим?»
«Мне ни к чему одические рати…»
Мне ни к чему одические рати
И прелесть элегических затей.
По мне, в стихах все быть должно некстати,
Не так, как у людей.
Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.
Сердитый окрик, дегтя запах свежий,
Таинственная плесень на стене…
И стих уже звучит, задорен, нежен,
На радость вам и мне.
Стрелецкая луна.
Замоскворечье. Ночь.
Как крестный ход идут
Часы Страстной недели.
Мне снится страшный сон.
Неужто в самом деле
Никто, никто, никто
Не может мне помочь?
В Кремле не надо жить.
Преображенец прав.
Здесь древней ярости
Еще кишат микробы:
Бориса дикий страх,
И всех Иванов злобы,
И Самозванца спесь –
Взамен народных прав.
«Уложила сыночка кудрявого…»
Уложила сыночка кудрявого
И пошла на озеро по воду,
Песни пела, была веселая,
Зачерпнула воды и слушаю:
Мне знакомый голос прислышался,
Колокольный звон
Из-под синих волн,
Так у нас звонили в граде Китеже.
Вот большие бьют у Егория,
А меньшие с башни Благовещенской,
Говорят они грозным голосом:
«Ах, одна ты ушла от приступа,
Стона нашего ты не слышала,
Нашей горькой гибели не видела.
Но светла свеча негасимая
За тебя у престола Божьего.
Что же ты на земле замешкалась
И венец надеть не торопишься?
Распустился твой крин во полунощи,
И фата до пят тебе соткана.
Что ж печалишь ты брата-воина
И сестру – голубицу-схимницу,
Своего печалишь ребеночка?..»
Как последнее слово услышала,
Света я пред собою невзвидела,
Оглянулась, а дом в огне горит.
В лесу голосуют деревья.
Н.З.
И вот, наперекор тому,
Что смерть глядит в глаза, –
Опять, по слову твоему,
Я голосую за:
То, чтоб дверью стала дверь,
Замок опять замком,
Чтоб сердцем стал угрюмый зверь
В груди… А дело в том,
Что суждено нам всем узнать,
Что значит третий год не спать,
Что значит утром узнавать
О тех, кто в ночь погиб…
Александрийские чертоги
Покрыла сладостная тень.
Пушкин
Уже целовала Антония мертвые губы,
Уже на коленях пред Августом слезы лила…
И предали слуги. Грохочут победные трубы
Под римским орлом, и вечерняя стелется мгла.
И входит последний плененный ее красотою,
Высокий и статный, и шепчет в смятении он:
«Тебя – как рабыню… в триумфе пошлет пред собою…»
Но шеи лебяжьей все так же спокоен наклон.
А завтра детей закуют. О, как мало осталось
Ей дела на свете – еще с мужиком пошутить
И черную змейку, как будто прощальную жалость,
На смуглую грудь равнодушной рукой положить.
И дряхлый пук дерев.
Пушкин
А я росла в узорной тишине,
В прохладной детской молодого века.
И не был мил мне голос человека,
А голос ветра был понятен мне.
Я лопухи любила и крапиву,
Но больше всех серебряную иву,
И, благодарная, она жила
Со мной всю жизнь, плакучими ветвями
Бессонницу овеивала снами.
И – странно! – я ее пережила.
Там пень торчит, чужими голосами
Другие ивы что-то говорят
Под нашими, под теми небесами.
И я молчу… Как будто умер брат.
Мои молодые руки
Тот договор подписали
Среди цветочных киосков
И граммофонного треска,
Под взглядом косым и пьяным
Газовых фонарей.
И старше была я века
Ровно на десять лет.
А на закат наложен
Был черный траур черемух,
Что осыпался мелким,
Душистым, сухим дождем…
И облака сквозили
Кровавой цусимской пеной,
И плавно ландо катили
Теперешних мертвецов…
А нам бы тогдашний вечер
Показался бы маскарадом,
Показался бы карнавалом,
Феерией grand-gala…[6]
От дома того – ни щепки,
Та вырублена аллея,
Давно опочили в музее
Те шляпы и башмачки.
Кто знает, как пусто небо
На месте упавшей башни,
Кто знает, как тихо в доме,
Куда не вернулся сын.
Ты неотступен, как совесть,
Как воздух, всегда со мною,
Зачем же зовешь к ответу?
Свидетелей знаю твоих:
То Павловского вокзала
Раскаленный музыкой купол
И водопад белогривый
У Баболовского дворца.
«Так отлетают темные души…»