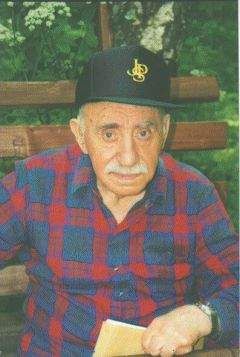1957
Умерла Татьяна Васильевна,
Наша маленькая, близорукая,
Обескровлена, обессилена
Восемнадцатилетнею мукою.
С ней прощаются нежно и просто,
Без молитвы и суеты,
Шаповалов из Княж-Погоста,
Яков Горовиц из Ухты.
Для чего копаться в истории,
Как возникли навет и поклеп?
Но когда опускался гроб
В государственном крематории, —
Побелевшая от обид,
Горем каторжным изнуренная,
Покоренная, примиренная,
Зарыдала тундра навзрыд.
Это раны раскрылись живые,
Это крови хлестала струя,
Это плакало сердце России —
Пятьдесят восьмая статья.
И пока нам, грешным, не терпится
Изменить иль обдумать судьбу,
Наша маленькая страстотерпица
Входит в пламя — уже в гробу.
Но к чему о скорби всеобщей
Говорить с усмешкою злой?
Но к чему говорить об усопшей,
Что святая стала золой?
Помянуть бы ее, как водится
От языческих лет славянства…
Но друзья постепенно расходятся,
Их Москвы поглощает пространство.
Лишь безмолвно стоят у моста,
Посреди городской духоты,
Шаповалов из Княж-Погоста,
Яков Горовиц из Ухты.
1958
Говорливый, безумный базар воробьев
На деревьях — свидетелях давних боев,
Вавилонская эта немая тоска
Потемневшего известняка.
Эта улица, имя которой Печаль,
И степная за ней безысходная даль,
Тишина и тепло, лишь одни воробьи
Выхваляют товары свои.
Да сидят у подвала с газетой старик
И старуха, с которой болтать он привык,
И смотрю я на них, и текут в забытьи
Бесприютные слезы мои.
1959
От Москвы километров отъехали на сто,
И тогда мимо нас, как-то царственно вкось,
Властелин-вавилонянин с телом гимнаста,
Пробежал по тропинке породистый лось.
Князь быков, жрец верховный коровьего стада,
Горбоносый заложник плебея-врага,
От людей не отвел он бесслезного взгляда,
И как знак звездочета темнели рога.
Он боялся машин и дорожного шума,
Как мужчины порою боятся мышей,
Был испуг маловажен, а важная дума
В нем светилась печальною сутью вещей.
Побежать, пожевать бы кипрей узколистный,
А свобода — в созвездиях над головой!
Пленник мира, на мир он смотрел ненавистный,
На союз пожирателей плоти живой.
1960
Как молитвы, рождаются дни,
И одни состоят из тумана,
В тальниках замирают они,
Как вечерняя заумь шамана.
У других голоса — как леса,
Переполненные соловьями,
И у них небеса — туеса,
Туеса с голубыми краями.
Вот у этих запевка тиха,
А у тех — высока, хрипловата,
В пестрый гребень муллы-петуха
Заключат они краски заката.
А бывают такие утра:
Будто слезы из самого сердца,
Льется солнце у них из нутра —
Изуверская кровь страстотерпца.
Как молитвы, рождаются дни,
И одни — как пасхальная скатерть
Посреди подгулявшей родни,
А в окошке — покровская паперть.
Ну а мне — на заре ветерок,
Бесприютная, смутная дрема,
Пьяный дворник взошел на порог
Судный день накануне погрома.
1960
Красивый сон про то да се
Поведал нам Жан-Жак Руссо.
Про то, как мир обрел покой
И стал невинным род людской.
Про то, как все живут кругом
Трудом земли, святым трудом.
Как пахари и пастухи
Дудят в дуду, поют стихи,
Они поют про то да се,
Играют мальчики в серсо…
Жан-Жак, а снились ли тебе
Селенья за Курган-Тюбе?
За проволокой — дикий стан
Самарских высланных крестьян?
Где ни былинки, ни листка
В пустыне долгой, как тоска?
Где тигр трубил издалека?
Где хлопок вырос из песка?
Где чахли дети мужика
В хозяйстве имени Чека?
Там был однажды мой привал.
Я с комендантом выпивал.
С портрета мне грозил Сосо,
И думал я про то да се.
1960
В окруженье траурных венков
Он лежал, уже не постигая
Ни цветов, ни медленных шагов,
И не плакала жена седая.
Только к тесу крышки гробовой
Ангелы угрюмо прикорнули,
Да оркестр трудился духовой,
И друзья томились в карауле.
Точно с первой горсточкой тепла
Робкого еще рукопожатья,
К мертвецу с букетом подошла
Женщина в потертом сером платье.
Скрылась, поглощенная толпой,
Что молчание хранила свято…
А была когда-то молодой
И любила мертвеца когда-то.
А какие он писал слова
Существу, поблекшему уныло,
Пусть узнает лишь его могила
Да припомнит изредка вдова…
Если верить мудрецам индийским,
Стану после смерти муравьем,
Глиняным кувшином, лунным диском,
Чей-то мыслью, чьим-то забытьем,
Но к чему мне новое понятье,
Если не увижу никогда
Вот такую, в старом, сером платье,
Что пришла к покойнику сюда.
1960
Соловей поет за рекой лесной,
Он поет, — расстаются вдруг
То ли брат с сестрой, то ли муж с женой,
То ль с любовницей старый друг.
Поезда гудят на прямом бегу,
И кукушки дрожит ку-ку,
Дятлу хочется зашибить деньгу,
Постолярничать на суку.
Ранний пар встает над гнилой водой,
Над зеленой тайной болот.
Умирает наш соловей седой,
Умирая, поет, поет…
1960
Мужа уводят, сына уводят
В царство глухое,
И на звериный рык переводят
Горе людское.
Обыски ночью — и ни слезинки,
Ни лихоманки
Возле окошка, возле кабинки,
Возле Лубянки.
Ей бы, разумной, — вольные речи,
Но издалече
Только могила с ней говорила,
Только могила.
Ей бы игрушки, ей бы подарки,
Всякие тряпки, —
Этой хохлушке, этой татарке,
Этой кацапке,
Но ей сказали: "Только могила,
Только могила!"
Все это было, все это было,
Да и не сплыло.
1960
Ты понял, что распад сердец
Страшней, чем расщепленный атом,
Что невозможно наконец
Коснеть в блаженстве глуповатом,
Что много пройдено дорог,
Что нам нельзя остановиться,
Когда растет уже пророк
Из будничного очевидца.
1960
В этой замкнутой, душной чугунности,
Где тоска с воровским улюлю,
Как же вас я в себе расщеплю,
Молодые друзья моей юности?
К Яру Бабьему этого вывели,
Тот задушен таежною мглой.
Понимаю, вы стали золой,
Но скажите: вы живы ли, живы ли?
Вы ответьте, — прошу я немногого:
Там, в юдоли своей неземной,
Вы звереете вместе со мной,
Низвергаясь в звериное логово?
Или гибелью вас осчастливили
И, оставив меня одного,
Не хотите вы знать ничего?
Как мне трудно! Вы живы ли, живы ли?
1960
У Симагиных вечером пьют,
Акулину Ивановну бьют.
Лупит внук, — не закончил он, внук,
Академию разных наук:
"Ты не смей меня, ведьма, сердить,
Ты мне опиум брось разводить!"
Тут и внука жена, и дружки,
На полу огурцы, пирожки.
Участковый пришел, говорит:
"По решетке скучаешь, бандит?"
Через день пьем и мы невзначай
С Акулиной Ивановной чай.
Пьет, а смотрит на дверь, сторожит.
В тонкой ручечке блюдце дрожит.
На исходе десяток восьмой,
А за внука ей больно самой.
В чем-то держится эта душа,
А душа — хороша, хороша!
"Нет, не Ванька, а я тут виной,
Сам Господь наказал его мной.
Я-то что? Помолюсь, отойду
Да в молитвенный дом побреду.
Говорят мне сестрицы: "Беда,
Слишком ты, Акулина, горда,
Никогда не видать твоих слез,
А ведь плакал-то, плакал Христос".
1960