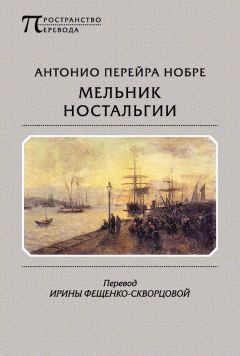Леса, 1885
Уснула, умерла, ушла в мечты… Не троньте!
В обитель – путь её, там, в небе купола.
Молитесь за неё, поля на горизонте
И тополя у вод, в которых смерть нашла.
Так Гамлет захотел. Вы постриг узаконьте,
Зовущие её к себе колокола.
Молчите вы, дрозды, в кустах не пустозвоньте,
Укрой её теплей, грядущей ночи мгла.
О, ласковый закат, влюблённый и унылый!
За нею лишь одной бродил он дотемна,
Теперь его свеча пребудет над могилой.
Струящихся светил на небе след нечёткий:
Планеты нанизав на свой шнурок, луна,
Лишь за неё молясь, перебирает чётки.
Леса, 1888
Прошло шесть месяцев, как здесь я, на чужбине,
Живу один, а ты… в родных горах, в ложбине
Осталась, добрая моя, вздыхая и грустя,
Старушка славная! Ведь ты была – дитя.
И здесь, во Франции, во тьме, в часы ночные,
Я видел столько раз твои черты родные:
Заходишь в комнату тихонько в тишине,
И мёртвая, опять тревожась обо мне?
Когда могильщик спит, тайком ты из могилы
Встаёшь, о Доброта, Душа великой силы,
Издалека идёшь, и видно, по звездам
Тебя в ночи ведёт Господь, Отец наш, Сам…
Маран прошла уже, там нынче полнолунье,
Испания в ночи – смуглянка и колдунья,
Ты спросишь пастуха со стадом, там, у вод,
Где только лунный свет и звёздный небосвод,
Как Францию найти, а он тебе ответит:
«Смотри, моя звезда тебе в пути посветит…»
И думает, душой витая в вещих снах:
«Мадонна, нищенка иль призрак, лунный прах?»
Идёшь с улыбкою… Чешуйчаты, как змеи,
Остались позади, чернея Пиренеи,
Где нетерпение стремит людской поток
В курьерских поездах на север, юг, восток…
Приходишь!
Сыплется земля твоей могилы
На деревянный пол. О, этот звук унылый!
В одежде спрятана, в тончайшем полотне,
Могила шла с тобой без устали ко мне.
Опора страждущих! О, милосердный Боже!
Бывают жребии мистически похожи:
Ведь с нашей Родины, Господь её храни,
Ушли мы странствовать в одни и те же дни:
Ты боль свою в гробу, как в сундуке укрыла,
Мою ж со мной – несла морской стихии сила:
По океану плыл, где грозный вал бурлит,
А под водой – всегда покой могильных плит.
Но жизнь – лишь день один, каприз, игра узора…
Увидимся мы вновь… я знаю, очень скоро!
И в мире том, ином, хочу тебе служить,
Святая Доброта…
Как страшно должен стыть
Твой дом подземный: льда он, видно, холоднее,
Чтоб тело в целости твоё хранить вернее.
И о могиле мне старик сказал, смирен:
Не пахнет смертью там, не тронул тела тлен…
Святая! Как я мог тебя одну оставить
Средь сов – им только мрак полночный, жуткий славить,
Одну, и в холоде… Мой Бог! ты лишена
Той дружеской руки, что так тебе нужна:
Чтобы могла тебя укутать в одеяло,
Чтоб молоко тебе согретое давала,
Впускала светлые рассветные лучи,
Лампадку теплила, как оберег в ночи,
И голос не звучит у той плиты холодной,
В тревоге искренней, в печали безысходной,
Не спросит: чем помочь? спокойно ль нынче спать?
Бедняжка милая! Моя вторая мать!
Чу! Колокол звонит: то в сердце стон печали.
И в одиночестве застылом зазвучали
Воспоминания, мечты – летучий прах…
Ах, мавританочка – Коимбра, где ты, ах!
Дом золотой, где вдоль тропы цветёт татарник,
И песней соловьёв заполонён кустарник.
Твой это дом, и ты – сидящей у окна,
С улыбкой доброю своею мне видна.
Твой взгляд тревожный сквозь кустарника чащобу,
Следящий, как с утра спешил я на учёбу,
Чтоб дворик проходя, тишайший дворик ваш,
Как раз не угодил под чей-то экипаж.
Я вижу спаленку мою, всех комнат выше,
Воркуют голуби над ней, на самой крыше,
Часы, не торопясь, бьют глухо надо мной,
Как будто за стеной хрипит во сне больной.
И вижу я тебя январскими ночами:
При свете лампы шьёшь, порой же – со свечами.
И вижу я: твой сын, на ощупь он бредёт:
Тот взгляд невидящий, бровей крутой разлёт.
Прикрытый веками, как он сияет чисто
В очах у горлицы – цвет нежный аметиста.
Эмилио любим, с тобой тепло ему,
Да, этой горлице вольно в твоём дому.
И вижу девочку-дитя[1] я меж родными,
Чьё, нежного цветка, так мелодично имя,
Чьё имя, как твоё. Всё вижу, как вчера…
В пунцовом платье Мак идёт среди двора,
О, Маргарет[55], краса, цветущий алый мак!
Господь, позволь же мне её запомнить так!
И вижу взгляд, твой взгляд, о, свет благословенный,
Когда из церкви ты вернёшься от новены.
Под похоронный звон, под звон колоколов
Читаешь жития святых и часослов.
Привет студенческий – он для твоей кареты:
Плащи распахнуты, поклон, в руках – береты…
И вижу: Руй с тобой, твой сын – артиллерист,
И взгляд твой любящий – весь день слезой искрист.
И вижу я гвоздик благоуханных ноты:
По ним тебе играть мазурку и гавоты.
И вижу гнёзда: их надёжно дом хранит,
Там ласточки живут, весёлый клич звенит.
И вижу пруд, воды лазурно-чисты очи,
Лягушек жалобы, что изливают ночи,
И вижу рощи, где толпится беднота:
Ты смоквы всем даёшь, чтоб славили Христа.
И слышу экипаж звенит ночной, почтовый,
И вижу: стол накрыт в украшенной столовой.
И вижу я тебя: ты во главе стола,
Такая же, какой ты в эти дни была.
В глухом чепце, черты твои так величавы!
А локоны, как снег, они белы, кудрявы.
(На кладбище пойти – хоть прядку срежу я!)
И вижу Вашко[2], он серьёзен, грусть тая.
Благословенный дом!..
Ведь в мире всё пройдёт, уйдёт с водой текучей,
И всё останется, и миру нет конца,
И бесконечна жизнь по замыслу Творца.
Всё вижу я окно, где ты стоишь – всё та же
(Но не секрет, что дом давно готов к продаже).
И Вашко тот же, грусть его из прежних дней
(Но, с кладбища придя, глядит ещё грустней).
И вижу спаленку, она осталась прежней
(Но помнится она мне всё же белоснежней).
Всё цело: и окно, и белый парапет
(Но я не тороплюсь теперь на факультет).
И в зале стол стоит, как встарь, красивый, длинный
(Но скатертью он не накрыт уже старинной).
На патине часов луч солнца не погас
(Но стрелки спят: на них один и тот же час).
И в лампе масло, и она глядится чинно
(Но свет её погас навек с твоей кончиной).
И дилижанс опять пройдёт, в тиши звеня
(Но не тебе смотреть на спорый бег коня).
Пройдут студенты вновь: в них блеск огня и пыла
(Но нет, не распахнут они плащей, как было).
И от новен идёт толпа людей других
(Тебя не вижу: нет уже тебя меж них).
И ласточки птенцов опять выводят вскоре
(Но трижды совершён их перелёт за море).
И погребальный звон в церквах по вечерам
(Но ты молиться не пойдёшь уже во храм).
Смоковницы твои, как встарь, близки к жилищам
(Но смоквы уж не ты теперь даруешь нищим).
Руй в форме воинской, ткань та же, не бледней
(Но знак отличия теперь иной на ней).
Лягушки всё кричат о боли, что есть мочи
(Но ты не слышишь их из мрака Вечной Ночи).
Эмильо скорбь унял и горе превозмог
(Но взгляд лучистый строг и очень одинок).
Ещё гвоздики здесь в саду посеял кто-то
(Другие ноты, не подходят для гавота).
Ещё я слышу плеск – рыдания пруда
(Но замутилась в нём с тех давних дней вода).
И Маргарет ещё – цветок, отрада взора
(Но прежний алый Мак, увы… уже сеньора).
Всё рдеют маки, всё дрожат в росе листы
(Но нет старушки, что польёт в саду цветы).
И ты, моя душа, ещё Долина боли
(Но лилиям не цвесть уже в моей юдоли).
Светает, я живу… (Но ты – уже мертва!)
Пройдя, пребудет всё…
Париж, 1891
Памяти Жозе де Оливейра Маседу,
Эдуардо Коимбра, Антонио Фугаса[1]
Когда смеркается, в тот час священный,
Когда, светясь, молочница-луна
Приносит молоко в дома Вселенной…
В часы вечерние, когда земля, хмельна,
Чудесного ждёт с верой изначальной;
И любятся пичуги допоздна…
Когда в монастыре в наряд печальный
Закутаются грустные монашки,
Когда цветы творят обряд венчальный.
Когда волнистый свет зальёт овражки,
И с неба глянут очи водяные,
И разбегутся звёздные ромашки.
И в те часы, тревожные, больные,
Когда Вселенная под пеленой
Сама себе страшна в часы ночные;
Я на холме, сливаясь с тишиной,
Мог видеть светлую слезу святую
Созданий, что уходят в мир иной.
И в ночь одну, по миру разлитую,
Увидел новую звезду на сини,
Поэта душу, душу золотую.
Он умер, путь прервав на середине,
Угасло сердце нежное поэта
Мелодией в старинном клавесине…
В нём жили и Ромео, и Джульетта,
Он странным был творением земным,
Орёл с душой голубки, полной света.
Овеян ветром смерти ледяным,
Я думал: всё едино, хоть злословь,
Хоть слёзы лей под небом кружевным.
И Эулалия, его любовь,
В Долине слёз осталась под ветрами
Оплакивать потерю вновь и вновь.
Ах, если б меж последними дарами
Был саван из волос его любимой,
Когда в гробу лежал мертвец во храме.
Вот у окна в тоске неистребимой
Стоит она, а косы золотые,
Как дым, по ветру медленно клубимый…
О вы, любимые мои Плеяды!
Вы приходите ставить паруса
В лагуны, где купаются наяды!
О, птицы, сладки ваши голоса!
Вы, травами с его простой могилы
Украсив гнёзда, славьте небеса!
Голубки лунные, что были милы
Поэта сердцу, вы, что так высоко
Блуждаете, порой теряя силы,
Вы к ветру, что замедлит у флагштока,
Крепите крылья и сопровождайте
Певца в струях воздушного потока!
Певцу-герою почести отдайте:
Вот он идёт, воздушный и прекрасный
Средь пены ласточек… О, не рыдайте!
Девчушки машут, светел взор их ясный.
Они проводят странника с земли
В тот мир, земным законам неподвластный.
А он идёт в немыслимой дали,
И вот, садится в лёгкую галеру,
Искрятся воды, словно хрустали…
В какую счастьем залитую сферу
Уносит душу смерть, и что там ждёт
Его – за чистую любовь и веру?
Да, новый день и новый труд грядёт…
Не призван ли возделывать он земли
Мариины… Кто знает наперёд?
Даровано такое счастье всем ли:
Вдали от грешников, среди крестьян
Трудись и сердцем светлый мир объемли;
Сей звёзды, лунным светом осиян!
А плачут, будто горе приключилось…
А ветер воет, стелется бурьян…
Смерть в ризы дождевые облачилась
И миро щедро льёт она с небес:
Причастие поэту, Божья милость.
Зачем же плакать, если он воскрес
Для новой жизни? Не рыдайте, горы!
Ты, ветер, не служи печальных месс!
Пусть скорбных родников умолкнут хоры,
Тростник не ропщет, словно проклиная,
Не шепчет море грустные укоры.
Достаточно, что плачет мать больная,
Что плачет Эулалия навзрыд,
Друзья печальны, друга вспоминая…
Невинный, светлою росой омыт,
Ты спать идёшь, оплаканный друзьями,
И Вечностью, как саваном, укрыт.
Ты, как дитя, в глубокой этой яме,
И кажется: боялись, погребая,
Что убежишь с ручьями, воробьями.
Спи, пусть цветы, головки нагибая,
С тобой пребудут: вечный щит цветной,
И ожиданья Вечность голубая…
Не трогает пещеры земляной
Ни пёс, ни волк, ни кондор белокрылый;
Могильщик – лучший зодчий под луной,
И вечные дома – его могилы.
Леса, 1885