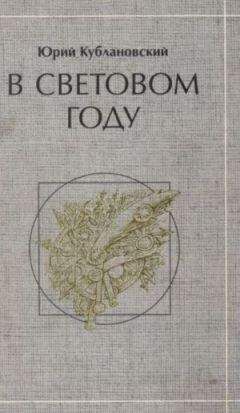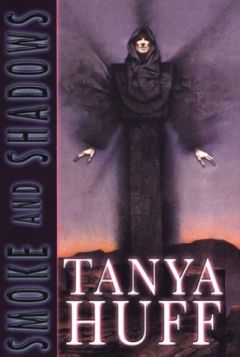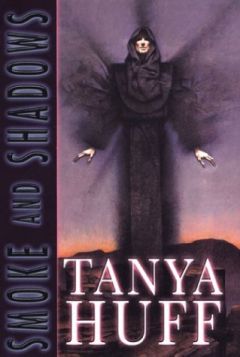КИШМИШ
За соснами в алых лианах
осенняя волглая тишь.
Туда с пустотою в карманах
приедешь, верней, прилетишь.
В присутствии бунинской тени
его героине опять
начнешь, задыхаясь, колени
сквозь толстую ткань целовать.
И шепчешь, попреков не слыша,
одними губами: «Прости,
подвяленной кистью кишмиша
потом в темноте угости.
Пусть таинство нашего брака
с моей неизбывной виной
счастливцу поможет однако
в окопах войны мировой.
И в смуту, когда изменили
нам хляби родимой земли,
прости, что в поту отступили,
живыми за море ушли.
В сивашском предательском иле,
в степи под сожженной травой
и в сентженевьевской могиле
я больше, чем кажется — твой».
1999
Затемно над рекою
низко клубится дым —
хочется мне покою,
чтоб задохнуться им.
То бишь похож заране
до опознанья я
на рыбака в тумане
сером небытия
над мелководной бездной;
пьяные голоса
с набережной уездной
слышат ли небеса?
Судя по отголоску
говора «матьматьмать»,
нынешним отморозкам
нечего им сказать.
Солнце за пеленою,
словно вода в ведре.
Сердце готово к сбою,
ступору на одре.
Крепче прижавшись ухом
к голой родной земле,
той, что мне будет пухом
в холоде, как в тепле,
слышу, глотая слезы,
как там в хвое сырой
крошится лист березы,
меленький золотой.
Связано кровно имя —
отчество праотца
с синими и седыми
астрами у крыльца,
с кустиками бархотки,
как на ветру один
с лиловизной в середке
держится георгин.
И на пустой странице
у стихотворных троп
плотность сырой тряпицы,
охолодившей лоб.
23. IX.1999. Рыбинск
Клены в росе,
в пятнах огня —
желтые все.
Хоть у меня
много в роду
середнячков,
в лес не войду
без темных очков,
тех, что с собой
на ночь в подвал
рыцарь скупой,
видимо, брал.
За золотым
стала лазурь
темноседым
скопищем бурь.
Солнца на дне
диск там пропал.
Словно вовне
кто-то сказал,
тихо сказал,
как отрубил,
что отгулял
и отлюбил.
Холод влетит
в грудь — и окрест
всю превратит
землю в асбест.
Но не забыт
старый кожан,
истовый быт
литкаторжан.
Если найдешь
уголь-глагол,
пепел трясешь
прямо на стол,
чтобы отсель
взять мы могли
боль в колыбель
отчей земли.
3. Х.1999. Калуга
Необязательный
ход жизни кратный,
враз поступательный
и обратный.
И тем отчетливей
былое в хмари,
чем ты рассчетливей,
черствей и старе.
Когда светает
теперь в окошке
моей сторожки,
никто не знает.
В сей миг досуга
и «или — или»
спросить бы друга,
да он в могиле:
мол, помнишь лето
и нас шакалов,
гудевших где-то
у трех вокзалов?
Но зелень вянет,
она пятнистей,
шершавей станет
и золотистей.
Могла до вьюги
форсить в жакете,
но и подруги
уж нет на свете.
Кристаллы сада.
Моя хибарка —
в углу лампада,
в ногах овчарка.
Мороз по коже
бежит порою
и сердце тоже
готово к сбою:
вдруг на халяву
заглянет третье
к нам на заставу
тысячелетье
и мельтешенье
воспоминаний —
канун крушения
мирозданий?
1999
Мне, презиравшему осторожность,
подозреваемому в измене,
не просто было пройти таможню.
Прыжок — и я в добронравной Вене.
Иду по ней, будто Лазарь в коме,
еще ни в чем не поднаторевший,
и вижу всюду портреты Роми,
незадолго перед тем умершей.
То темнорусая молодая
с неугасающими зрачками,
то подурневшая испитая
с глазами, скрытыми под очками.
С тех пор на прежние дивиденды
живя и чувствуя, что тупею,
я в синема небогатых ленты
всегда отслеживал — если с нею.
Узнал изгибы её, изъяны.
Но два часа проходило, час ли,
и небольшие киноэкраны
с дождем помех неизменно гасли.
Но будет, будет болтать об этом.
Потом за столиком ли, за стойкой —
тут сообщение под секретом —
кончалось всё под шумок попойкой.
Мы с Роми были единоверцы —
с чем соглашалась её улыбка.
И хоть в груди еще ходит сердце,
ему там зябко вдвойне и зыбко.
Всё прощу, но уйди,
ангел мой, по-английски.
И.Л.
Мой отдалённый друг,
друг короля без свиты,
взятого на испуг
вдруг со своей орбиты,
помнишь, среди зимы
в цоколе под высоткой
как запасались мы
на ночь икрой и водкой?
Ты была в оны дни
пылкий стратег и тактик,
не уступавший ни
пяди родных галактик,
даже когда на вид
в сумраке небогатом
сходствовал твой прикид
скинутый с маскхалатом.
Разве ответишь «да» —
откликом мне на окрик?
В нашей любви тогда
каждый шажок — апокриф.
Ёжики фонарей
словно садки Эдема.
Ночью она видней —
солнечная система.
Я у тебя один
будучи по идее,
смолоду до седин
дожил при Берендее.
Ты у меня в груди
в виде зарубки, риски.
Всё прощу, но уйди,
ангел мой, по-английски.
25. VI. 2000
Вот говорят, что менты — злодеи,
что избивают в своих застенках
всех честных мучеников идеи
до дрожи в голосе и коленках.
Не знаю, я разменял полтинник,
был поддавальщиком и скитальцем,
давал понять, что остряк и циник —
никто не тронул меня и пальцем.
Наоборот, по указке стрёмной
я фараоновой рукавицы
легко нашел переулок темный.
А до того мы с тобой, как птицы,
общались только по телефону.
Из эмиграции-заграницы
я видел родину — как икону
нерукотворную из темницы.
Разлука делает фетишистом,
блазнит заданием сдвинуть горы.
Открыла мне в кимоно пятнистом
ты заедающие запоры.
В ту зиму происходило с нами
со всеми что-то, о чем не знали.
Под слишком тусклыми фонарями
летел снежок по диагонали.
Стараюсь вспомнить, что дальше было,
как уживались блокада с нэпом.
Должно быть, ты меня не любила,
впотьмах шептавшего о нелепом.
ПОЕЗД ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ
На древних на рельсовых стыках
потряхивает наш Ноев…
В повадках, одежде, ликах
заметны следы запоев.
Помятые непоседы,
ограбленные на старте,
горячечные беседы
заводят, теснясь в плацкарте.
Хорошие логопеды
должны языки нам вправить,
чтоб стало, зашив торпеды,
чем русского Бога славить.
Родная земля не родит,
как ветвь, не дает побегов.
По новой на ней проходит
ротация человеков.
Застиранные тряпицы
раздвинутых занавесок
и сажи жирны крупицы.
А дальше — один подлесок
да ворон
в темнеющей сини
над дюнами вьюжной пустыни
и держат удар непогоды
все долгие долгие годы…
27. III. 2000