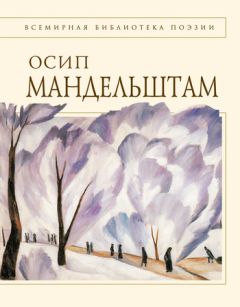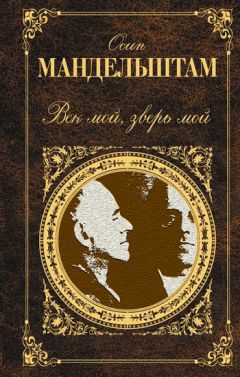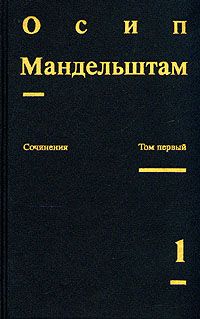Ламарк
Был старик, застенчивый, как мальчик,
Неуклюжий, робкий патриарх…
Кто за честь природы фехтовальщик?
Ну, конечно, пламенный Ламарк.
Если все живое лишь помарка
За короткий выморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень.
К кольчецам спущусь и к усоногим,
Прошуршав средь ящериц и змей,
По упругим сходням, по излогам
Сокращусь, исчезну, как Протей.
Роговую мантию надену,
От горячей крови откажусь,
Обрасту присосками и в пену
Океана завитком вопьюсь.
Мы прошли разряды насекомых
С наливными рюмочками глаз.
Он сказал: природа вся в разломах,
Зренья нет – ты зришь в последний раз.
Он сказал: довольно полнозвучья, —
Ты напрасно Моцарта любил:
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил.
И от нас природа отступила —
Так, как будто мы ей не нужны,
И продольный мозг она вложила,
Словно шпагу, в темные ножны.
И подъемный мост она забыла,
Опоздала опустить для тех,
У кого зеленая могила,
Красное дыханье, гибкий смех…
Художник нам изобразил
Глубокий обморок сирени
И красок звучные ступени
На холст, как струпья, положил.
Он понял масла густоту —
Его запекшееся лето
Лиловым мозгом разогрето,
Расширенное в духоту.
А тень-то, тень все лиловей,
Свисток иль хлыст, как спичка, тухнет, —
Ты скажешь: повара на кухне
Готовят жирных голубей.
Угадывается качель,
Недомалеваны вуали,
И в этом солнечном развале
Уже хозяйничает шмель.
Дайте Тютчеву стрекозу —
Догадайтесь почему!
Веневитинову – розу.
Ну, а перстень – никому.
Боратынского подошвы
Изумили прах веков,
У него без всякой прошвы
Наволочки облаков.
А еще над нами волен
Лермонтов, мучитель наш,
И всегда одышкой болен
Фета жирный карандаш.
Словно гуляка с волшебною тростью,
Батюшков нежный со мною живет.
Он тополями шагает в замостье,
Нюхает розу и Дафну поет.
Ни на минуту не веря в разлуку,
Кажется, я поклонился ему:
В светлой перчатке холодную руку
Я с лихорадочной завистью жму.
Он усмехнулся. Я молвил: спасибо.
И не нашел от смущения слов:
– Ни у кого – этих звуков изгибы…
– И никогда – этот говор валов…
Наше мученье и наше богатство,
Косноязычный, с собой он принес —
Шум стихотворства и колокол братства,
И гармонический проливень слез.
И отвечал мне оплакавший Тасса:
– Я к величаньям еще не привык;
Только стихов виноградное мясо
Мне освежило случайно язык…
Что ж! Поднимай удивленные брови
Ты, горожанин и друг горожан,
Вечные сны, как образчики крови,
Переливай из стакана в стакан…
Сядь, Державин, развалися, —
Ты у нас хитрее лиса,
И татарского кумыса
Твой початок не прокис.
Дай Языкову бутылку
И подвинь ему бокал.
Я люблю его ухмылку,
Хмеля бьющуюся жилку
И стихов его накал.
Гром живет своим накатом —
Что ему до наших бед?
И глотками по раскатам
Наслаждается мускатом
На язык, на вкус, на цвет.
Капли прыгают галопом,
Скачут градины гурьбой,
Пахнет потом – конским топом —
Нет – жасмином, нет – укропом,
Нет – дубовою корой.
Зашумела, задрожала,
Как смоковницы листва,
До корней затрепетала
С подмосковными Москва.
Катит гром свою тележку
По торговой мостовой,
И расхаживает ливень
С длинной плеткой ручьевой.
И угодливо поката
Кажется земля, пока
Шум на шум, как брат на брата,
Восстают издалека.
Капли прыгают галопом.
Скачут градины гурьбой
С рабским потом, конским топом
И древесною молвой.
Полюбил я лес прекрасный,
Смешанный, где козырь – дуб,
В листьях клена перец красный,
В иглах – еж-черноголуб.
Там фисташковые молкнут
Голоса на молоке,
И когда захочешь щелкнуть,
Правды нет на языке.
Там живет народец мелкий —
В желудевых шапках все —
И белок кровавый белки
Крутят в страшном колесе.
Там щавель, там вымя птичье,
Хвой павлинья кутерьма,
Ротозейство и величье
И скорлупчатая тьма.
Тычут шпагами шишиги,
В треуголках носачи,
На углях читают книги
С самоваром палачи.
И еще грибы-волнушки,
В сбруе тонкого дождя,
Вдруг поднимутся с опушки —
Так, немного погодя…
Там без выгоды уроды
Режутся в девятый вал,
Храп коня и крап колоды —
Кто кого? Пошел развал…
И деревья – брат на брата —
Восстают. Понять спеши:
До чего аляповаты,
До чего как хороши!
Freund! Versäume nicht zu leben:
Denn die Jahre fliehn,
Und es wird der Saft der Reben
Uns nicht lange glühn!
Ew. Chr. Kleist[5]
Себя губя, себе противореча,
Как моль летит на огонек полночный,
Мне хочется уйти из нашей речи
За все, чем я обязан ей бессрочно.
Есть между нами похвала без лести
И дружба есть в упор, без фарисейства —
Поучимся ж серьезности и чести
На западе у чуждого семейства.
Поэзия, тебе полезны грозы!
Я вспоминаю немца-офицера,
И за эфес его цеплялись розы,
И на губах его была Церера…
Еще во Франкфурте отцы зевали,
Еще о Гете не было известий,
Слагались гимны, кони гарцевали
И, словно буквы, прыгали на месте.
Скажите мне, друзья, в какой Валгалле
Мы вместе с вами щелкали орехи,
Какой свободой мы располагали,
Какие вы поставили мне вехи.
И прямо со страницы альманаха,
От новизны его первостатейной,
Сбегали в гроб ступеньками, без страха,
Как в погребок за кружкой мозельвейна.
Чужая речь мне будет оболочкой,
И много прежде, чем я смел родиться,
Я буквой был, был виноградной строчкой,
Я книгой был, которая вам снится.
Когда я спал без облика и склада,
Я дружбой был, как выстрелом, разбужен.
Бог Нахтигаль, дай мне судьбу Пилада
Иль вырви мне язык – он мне не нужен.
Бог Нахтигаль, меня еще вербуют
Для новых чум, для семилетних боен.
Звук сузился, слова шипят, бунтуют,
Но ты живешь, и я с тобой спокоен.
Во всей Италии приятнейший, умнейший,
Любезный Ариост немножечко охрип.
Он наслаждается перечисленьем рыб
И перчит все моря нелепицею злейшей.
И, словно музыкант на десяти цимбалах,
Не уставая рвать повествованья нить,
Ведет туда-сюда, не зная сам, как быть,
Запутанный рассказ о рыцарских скандалах.
На языке цикад пленительная смесь
Из грусти пушкинской и средиземной спеси —
Он завирается, с Орландом куролеся,
И содрогается, преображаясь весь.
И морю говорит: шуми без всяких дум,
И деве на скале: лежи без покрывала…
Рассказывай еще – тебя нам слишком мало,
Покуда в жилах кровь, в ушах покуда шум.
О город ящериц, в котором нет души, —
Когда бы чаще ты таких мужей рожала,
Феррара черствая! Который раз сначала,
Покуда в жилах кровь, рассказывай, спеши!
В Европе холодно. В Италии темно.
Власть отвратительна, как руки брадобрея,
А он вельможится все лучше, все хитрее
И улыбается в крылатое окно —
Ягненку на горе, монаху на осляти,
Солдатам герцога, юродивым слегка
От винопития, чумы и чеснока,
И в сетке синих мух уснувшему дитяти.
А я люблю его неистовый досуг —
Язык бессмысленный, язык солено-сладкий
И звуков стакнутых прелестные двойчатки…
Боюсь раскрыть ножом двустворчатый жемчуг.
Любезный Ариост, быть может, век пройдет —
В одно широкое и братское лазорье
Сольем твою лазурь и наше черноморье.
…И мы бывали там. И мы там пили мед…
В Европе холодно. В Италии темно.
Власть отвратительна, как руки брадобрея.
О, если б распахнуть, да как нельзя скорее,
На Адриатику широкое окно.
Над розой мускусной жужжание пчелы,
В степи полуденной – кузнечик мускулистый.
Крылатой лошади подковы тяжелы,
Часы песочные желты и золотисты.
На языке цикад пленительная смесь
Из грусти пушкинской и средиземной спеси,
Как плющ назойливый, цепляющийся весь,
Он мужественно врет, с Орландом куролеся.
Часы песочные желты и золотисты,
В степи полуденной кузнечик мускулистый —
И прямо на луну влетает враль плечистый…
Любезный Ариост, посольская лиса,
Цветущий папоротник, парусник, столетник,
Ты слушал на луне овсянок голоса,
А при дворе у рыб – ученый был советник.
О, город ящериц, в котором нет души, —
От ведьмы и судьи таких сынов рожала
Феррара черствая и на цепи держала,
И солнце рыжего ума взошло в глуши.
Мы удивляемся лавчонке мясника,
Под сеткой синих мух уснувшему дитяти,
Ягненку на дворе, монаху на осляти,
Солдатам герцога, юродивым слегка
От винопития, чумы и чеснока, —
И свежей, как заря, удивлены утрате…