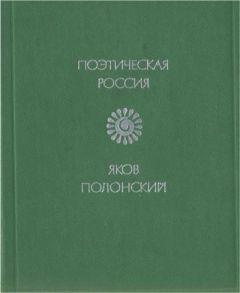Кажется, у Бока были взрослые дочери, из которых одна бежала и вышла за кого-то замуж -- такие были тогда в Рязани слухи, и я не ручаюсь за их достоверность. Бок был человек мыслящий и, как кажется, глубоко презирал тогдашнюю крепостную Россию. Помню, как он язвительно хохотал, когда при нем зашла речь о какой-то реформе. "Возможно ли чего-либо подобного ждать для России?.. Ха, ха, ха!" Еще помню одно его выражение: "Россия -- орел, который так наклевался всякой всячины, что у него от этого живот заболит. Есть такое пророчество -- это не я говорю..."
Вот все, что я помню об этом строгом и прямодушном немце.
Антон Тюрберт, у жены которого я брал уроки французского языка, скоро уехал в Москву или Петербург с женой своей. У него в Рязани умер и меньший сын его Петр; остался только старший -- Александр, который в это время, быть может, уже кончал свое ученье в Московском университете, а может быть, уже и кончил. Вероятно, старики не хотели жить с ним врозь: Александр остался у них единственным. Тюрберта впоследствии заменило новое лицо, некто Барбе -- француз, не успевший еще выучиться по-русски. Это был маленький, подвижный, средних лет человечек, не бледный, а белый как молоко, с черными блестящими глазками, по характеру добрый, но подозрительный и не столько вспыльчивый, сколько раздражительный. Ничего не стоило заставить его смеяться, и пустяками можно было рассердить его. Он приехал в Рязань с семьей, и ему была отведена квартира в здании старой гимназии (там же, где были квартиры и прочих учителей). Прежде всего Барбе стал исправлять наш выговор. Сначала мы читали вслух Телемака, а потом того же Телемака стали петь. Весь класс хором должен был читать одно и то же, растягивая каждый слог, с перерывами, то есть начиная новый слог не иначе, как по мановению руки учителя, который стоял посреди класса, точно дирижер, и в такт махал рукой.
Можете сами вообразить, как далеко было слышно, когда все мы, человек 30--40, разом выкликивали: "Ca-li-pso ne pouvait..." {"Калипсо не могла..." (фр.).} или другую фразу.
Барбе был уверен, что он тут-то и поймает на месте преступления того из нас, который не умеет выговаривать по-французски, как следует, и действительно, он вдруг останавливал хор и нападал на того или другого ученика, крича: "Э! ты, голюбчик, стой, стой! Ты что тут-там. Repetez... leur! leur! leur! {Повтори... их! их! их! (фр.).} Э, я все слышу... тут-там". Это "тут-там" он почему-то употреблял беспрестанно, особливо когда горячился.
Добившись от виноватого настоящего произношения "leur", он опять начинал дирижировать, махая рукой, сгибаясь и распрямляясь, и прислушиваясь, и исподлобья поглядывая то направо, то налево, то на самую заднюю скамейку.
Не знаю, в какой степени это было полезно, но это было оригинально. В соседних классах так и раздавался этот членораздельный хоровой крик; так уж все и знали, что это Барбе урок дает.
Вся задача тогдашнего преподавания языков была только в том, чтобы мы понимали то, что читаем по-латыни, по-немецки или по-французски; о выговоре мало заботились, и никогда не упражняли нас в переводе с русского языка на латинский, немецкий или французский. Барбе, я думаю, первый принялся за выговор. Недаром мы вышли из гимназии, не имея никакого понятия об истории французской литературы: много-много, что мы знали о Расине, о Лафонтене, да кое-что о Вольтере. Конечно, кого интересовала французская литература и кто мог читать по-французски, благодаря домашнему воспитанию, тот знал гораздо больше того, что у нас успевали узнать, переводя Телемака на язык, почти что непонятный нашему учителю, то есть на русский.
Вне классов, на улице или у себя на квартире Барбе был очень любезен, даже весел, иногда даже, говоря с каким-нибудь учеником, лукаво ему подмигивал. Но в гимназии, оттого ли, что многого он не понимал, ему воображалось, что его не уважают или над ним смеются, и вот что раз случилось: между нашими классами и залом были и пустые комнаты, и переходы, вроде коротеньких коридоров. В одном из этих проходов топилась печка. В рекреацию товарищ мой Кильхен, уже юноша очень серьезный и порядочно самолюбивый, проходя мимо печки, взял в руки железную кочергу и не заметил, что в это время проходил Барбе. Барбе шел к нам в класс, увидал его с кочергой и убежал.
Поднялась история. Только что приехал директор, Барбе пожаловался ему, что Кильхен, ученик 6-го класса, хотел ударить его кочергой.
Директор Семенов появился у нас в классе разгневанный донельзя. Он кричал на Кильхена и на весь класс; он грозил нам, что всех отдаст под красную шапку, то есть в солдаты (что тогда считалось чем-то вроде уголовного наказания). Кильхен оправдывался.
-- Нет! Э! нет! -- горячился Барбе.-- Нет, тут-там держал ти кочерга? Держал?!
-- Держал,-- признавался Кильхен.
-- А, держал! А зачем держал?
-- Пробовал, тяжела ли она.
-- А зачем пробовал?
-- Да не затем, конечно, чтоб вас бить. Ничего такого и в голову мне не приходило.
Не помню всей сцены до конца. Знаю только, что директор утих, Барбе успокоился. Кильхен нехотя перед ним извинился за то, что так неумышленно причинил ему такое великое беспокойство, и затем все пошло по-старому.
Спрашивается: мог ли бы нас в то время директор отдать под красную шапку? Мы верили, что мог бы, если бы захотел: пожаловался бы на нас министру, министр доложил бы царю, а царь мог бы наказать нас, если бы мы действительно вздумали поколотить учителя. Но никому, кроме подозрительного и трусливого Барбе, не могла бы и в голову прийти такая напраслина. Думаю, что сам директор скоро понял, что со стороны Барбе это было не что иное, как простое недоразумение.
Что сказать еще о Барбе -- не помню. Давно это было...
III
Припоминая своих гимназических учителей, я вовсе не имею претензии изобразить их такими, какими они были в действительности, или уяснить, почему именно учили нас так, а не иначе. В моих воспоминаниях я не творец и не художник, а только собиратель того, что мелькает в моей памяти. В ней, конечно, осталось немного, а то, что осталось, не изгладилось из моих воспоминаний только потому, что не раз приходилось мне припоминать то, что казалось мне или очень дурным, или очень хорошим, или то, что в мои школьные годы иовторялось часто, как, например, вечные прогулки учителя Ставрова в классе от стены до стены, или то, что сильно меня поразило, как, например, странный случай с Софи и неожиданная смерть ее.
Вот еще учитель рисования К. И. Босс. Я до сих пор, спустя более полувека, не забыл ни лица его, ни фигуры, ни голоса: это был уже пожилой человек, почти старик, сероглазый блондин, с несколько отвислыми щеками, толстенький, на двух проворных ногах; не забыл, что звук "э!" слышался довольно часто, когда он говорил. Это "э!" в устах его было и вопросительною, и отрицательною, и пренебрежительною, и выражающею нетерпеливую досаду частицей речи. Я никогда не видал его ни улыбающимся, ни смеющимся -- он не шутил.
Сам Босс никогда ничего не рисовал, но у него был порядочный глазомер. Известно, что в юности своей был он ламповщиком -- золотил лампы и чертил на них узоры (вероятно, по жести) и раз так угодил своим мастерством рязанскому генерал-губернатору Балашову, что тот тотчас же рекомендовал его гимназическому начальству, которое, конечно, не смело отказать такой особе и зачислило его в гимназию в качестве учителя рисования.
В своей казенной небольшой квартире, в самом нижнем этаже старой гимназии, с дверью со двора и состоящей только из двух маленьких комнаток (исключая перегородки, за которою стояла кровать его), он содержал и маленькую школу рисования, и маленькую лавочку. У него, помнится мне, постоянно встречал я двух учеников, двух не то мещанских, не то крепостных мальчиков, отданных ему на выучку.
И он учил своих мальчиков так, как никто теперь учить не умеет. Он сначала выучивал их владеть циркулем, чертить круги и решетки, потом тотчас же давал срисовывать очерки голов, рук и ног, и за малейшую их ошибку в контуре или неправильности бил их беспощадно. Они боялись его, как черта, и мало-помалу, из страха трепки, выучивались делать хорошие копии карандашом и акварелью. Мы, гимназисты, обязаны были брать у него оригинал (какую-нибудь литографированную голову, наклеенную на папку), покупать бумагу, карандаши, резины, растушевки и клей для наклеивания подмоченной бумаги на доску. Иной лавочки или магазина, где бы можно было все это приобрести, мы не знали, да, может быть, и не было такой лавки во всей Рязани, где бы продавались черные итальянские карандаши или рисовальная бумага. Стало быть, за это торгашество и нет причины строго осуждать почтенного Босса. Вероятно, жалованье его было мизерное, и нужно было поневоле и учить крепостных мальчишек писать копии с картин да плохие портреты, и заниматься торговлей.
Еще ранее моего поступления в гимназию мать моя, видя мою охоту к рисованию, пригласила Босса и затем стала по воскресеньям посылать к нему учиться, но, увидя, что я дальше линий и кругов не подвигаюсь и что без побоев никаких успехов не будет, велела мне отнести Боссу 10 рублей ассигнациями и перестать ходить к нему.