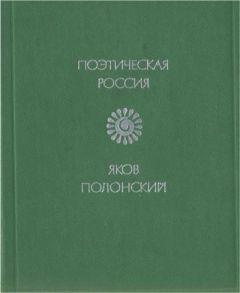Теперь же на разнообразие способностей не обращается никакого внимания. Теперь я бы не мог и кончить гимназического курса уже потому, что был великий мастер на грамматические ошибки. Я и теперь делаю их по рассеянности и сам исправляю их, перечитывая то, что написано. Иногда не только знаки препинания -- целые слоги выскакивают из слов или пропускаются, когда мысль обгоняет перо. За эти ошибки в мое время не раз меня и Титов высмеивал, но за это баллов мне не сбавлял, и когда я поступил в Московский университет студентом, получив 1 за алгебру, и написал ему письмо, извещая его и Яновского, что из словесности на экзаменах в Москве я получил 5, а из латыни 3, он и Яновский радовались так, как будто я был родной их сын, за участь которого они сильно беспокоились.
ПРИМЕЧАНИЯ
Школьные годы
(Начало грамотности и гимназия)
Эти воспоминания при жизни Полонского были напечатаны дважды: впервые -- в петербургском журнале "Русская школа" (1890. NoNo 1 и 2. С. 75--94 и 6--19) и -- повторно -- в Трудах Рязанской ученой архивной комиссии за 1890 год (Рязань. No 5 и 6. С. 59--68 и 85-91).
Начало воспоминаний о гимназических годах развивает рассказ о первых прочитанных книгах и упоминания мадам Тюрберт, обучавшей Полонского французскому языку, в главах XII и XIV "Старины и моего детства".
Полонский сожалеет о замене звуковым методом (то есть по непосредственному звуковому значению букв: а, б, в и т. д.) старинного метода обучения чтению -- по славянским названиям букв (то есть: аз, буки, веди и т. д.). Замена эта произошла приблизительно с середины XIX века. Ко времени написания этих воспоминаний в России произошло также некоторое упрощение грамматических форм письма (так называемая реформа Я. К. Грота, сформулированная в его труде "Русское правописание". Спб., 1885). Поэтому вопрос, поднятый Полонским, несмотря на чисто поэтическую мотивировку сожаления (утрата образности), представлял интерес для читателей такого серьезного педагогического журнала, каким была "Русская школа". По Гроту, кстати, было сохранено написание букв ижица, фита, ять, что вызывало недовольство многих учителей, так как их употребление не было регламентировано и представляло трудности для преподавания.
Полонский вспоминает, что Пушкин сравнивал виселицу с глаголем. Сравнение это -- из стихотворения "Альфонс садится на коня...":
"Кругом пустыня, дичь и голь...
А впереди торчит глаголь.
И на глаголе том два тела
Висят."
Воспоминания "Школьные годы" чрезвычайно богаты подробностями быта провинциальной гимназии, отдельными интересными фактами. Так, Полонский описывает посещение Рязанской гимназии в 1837 году поэтом В. А. Жуковским в качестве воспитателя цесаревича, будущего Александра II (поэт всю жизнь гордился тем, что Жуковскому понравились его стихи, сочиненные по этому случаю). Приезжал для ревизии гимназии в начале 1830-х годов и профессор Московского университета, уроженец Рязанской губернии Н. И. Надеждин.
Оду М. В. Ломоносова 1747 года на восшествие на престол Елизаветы Петровны Полонский цитирует неточно. Надо:
"Науки юношей питают,
Отраду старым подают."
Рассказывая о чтении гимназистами произведений Пушкина, ходивших в рукописях, Полонский не совсем точно приводит строки.
"Запретный плод вам подавай;
А без того вам рай не в рай," --
так в "Евгении Онегине" (восьмая глава).
По воспоминаниям Полонского видно, как сложно было отношение публики к поэзии Пушкина в начале 1830-х годов, даже тогда, когда стихи и поэмы его читались с опаской -- и не по печатным изданиям, а по спискам, распространявшимся тайно. Выл момент, когда "звучные" стихи Бенедиктова оттесняли в сознании молодого поколения пушкинскую поэзию.
Некролог Пушкина был напечатан не в "Молве", как пишет Полонский, а в "Литературных прибавлениях" к "Русскому инвалиду" (1837. 30 янв.) и начинался так: "Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в средине своего великого поприща!" (автор -- В. Ф. Одоевский).
В характеристике инспектора гимназии Ляликова Полонский держится объективного тона, но наблюдения его выдают тип монархиста, рьяно служившего "на благо отечества". Формула "православие, самодержавие, народность", которую растолковывал гимназистам этот "человек, созданный для инспекторства", была провозглашена в 1832 году, то есть в самом начале обучения Полонского в гимназии, товарищем министра народного образования С. С. Уваровым (ставшим через год министром). В докладе Николаю I, толкуя смысл этой формулы, он писал, что в ней -- "последний якорь нашего спасения и вернейший залог силы и величия нашего отечества". Отсюда и старание инспектора всеми средствами, пусть фальсификацией этимологии слова "болярин", проповедовать защиту отечества.
Учитель французского языка Барбе заставлял гимназистов хором читать начало романа Фенелона (1652--1715) "Приключения Телемака" (1699): "Калипсо не могла утешиться после отъезда Улисса". Для своего философско-политического романа Фенелон воспользовался сюжетом из античной мифологии -- о том, как нимфа Калипсо продержала Одиссея (Улисса) в своем прекрасном гроте семь лет, но не сумела заставить его забыть родину и отпустила домой.
Среди трудов французского историка Шарля Роллена (1661--1741) -- десятитомная "Древняя история об египтянах, о карфагенянах, об ассирианах, о вавилонянах, о мидянах, о персах, о македонянах и о греках" (русский перевод. Спб., 1749--1762), фундаментальный труд "Римская история от создания Рима до битвы актийския..." в шестнадцати томах (Спб., 1761--1767), переведенный В. К. Тредиаковским; а также книга "Роллень для юношества, или Начертание древней истории..." в трех частях (М., 1822), которую имеет в виду Полонский.
В воспоминаниях упоминается гимназист, учившийся в Рязани одновременно с Полонским, "будущий ученый": это Александр Николаевич Попов (1820--1877), историк, славянофил, член-корреспондент Петербургской Академии наук.
МОИ СТУДЕНЧЕСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ
I
Отъезд из Рязани.-- Бабушка Екатерина Богдановна Воронцова.-- Товарищи: Аполлон Григорьев и Фет.-- М. Ф. Орлов и декабристы.-- Первая встреча с И. С. Тургеневым.-- Мочалов.
В 1839 или годом раньше (не помню уже в точности) я отправился на ямской телеге из Рязани в Москву держать экзамен для поступления в Московский университет и ехал на одних и тех же лошадях около двух суток. В Москве смутно припоминается мне какой-то постоялый двор за Яузой и затем мое перемещение на Собачью площадку, в собственный дом моей двоюродной бабушки Екатерины Богдановны Воронцовой.
Там отвели мне в мезонине, по соседству с кладовой с домашними припасами, две комнаты, и я перенес туда мой чемодан и мою подушку. Старуха Воронцова была одною из типических представительниц тех барынь, которые помнили еще времена Екатерины II, и, еле грамотная, доживала она век свой, окруженная крепостной челядью и приживалками, с которыми судачила, иногда играла в дурачки и беспрестанно, даже по ночам, просыпаясь, упивалась чаем. Сиднем сидела она у себя дома вечно на одном и том же месте, душилась одеколоном, нюхала табак, ничем не интересовалась, кроме домашних передряг; вооружаясь хлопушкой, била мух, капризничала, щипала девок или посмеивалась. Трудно было мне ей угодить, тем более что она была когда-то в ссоре с сестрой своей, моей родной бабушкой Александрой Богдановной Кафтыревой. К моему счастию, племянник ее, наследник всего ее имущества, некто Ф. М. Тургенев, ловко вкравшийся в ее доверие, не нашел во мне ничего опасного, понял, что я не стану с ним тягаться или претендовать на наследство, и считал за лишнее на меня наговаривать или ссорить меня со старухой.
На экзаменах, в большой белой зале с белыми колоннами, в новом университетском здании, соседом моим по скамье был не кто иной, как Аполлон Александрович Григорьев. Тогда он был еще свежим, весьма благообразным юношей с профилем, напоминавшим профиль Шиллера, с голубыми глазами и с какою-то тонко розлитой по всему лицу его восторженностью или меланхолией. Я тотчас же с ним заговорил, и мы сошлись. Он признался мне, что пишет стихи; я признался, что пишу драму (совершенно мною позабытую) под заглавием: "Вадим Новгородский, сын Марфы Посадницы". Григорьев жил за Москвой-рекой в переулке у Спаса в Наливках. Жил он у своих родителей, которые не раз приглашали меня к себе обедать. А Фет, студент того же университета, был их постоянным сожителем, и комната его в мезонине была рядом с комнатой молодого Григорьева. Афоня и Аполлоша были друзьями. Помню, что в то время Фет еще восхищался не только Языковым, но и стихотворениями Бенедиктова, читал Гейне и Гете, так как немецкий язык был в совершенстве знаком ему (покойная мать его была немкой еврейского происхождения). Я уже чуял в нем истинного поэта и не раз отдавал ему на суд свои студенческие стихотворения, и досадно мне вспомнить, что я отдавал их на суд не одному Фету, но и своим товарищам и всем, кого ни встречал, и при малейшем осуждении или невыгодном замечании рвал их. Почему-то мне, крайне наивному юноше, казалось, что если стихи не совсем нравятся, то это и значит, что они никуда не годны. Раз профессор словесности И. И. Давыдов, которому отдал я на просмотр одно из моих стихотворений под заглавием "Душа", совершенно для меня неожиданно, во всеуслышание, прочел его на своей лекции перед большим сборищем студентов, наполнявших не аудиторию, а зал, который превращался в аудиторию, когда студенты не одного факультета, а двух или трех собирались слушать одну и ту же лекцию. Я был и озадачен, и сконфужен публичным похвальным отзывом этого, далеко не всеми любимого, профессора. Какие же были последствия? После лекции окружила меня толпа студентов, и некто Малиновский, недоучившийся проповедник новых философских идей Гегеля, а потому и влиятельный, стал стыдить и уличать меня в подражании Кольцову. Кроме размера, как мне помнится, тут не было никакого подражания; но для меня и этого уже было достаточно, чтобы истребить и навсегда забыть эту небольшую лирическую пьесу, и она канула в Лету.