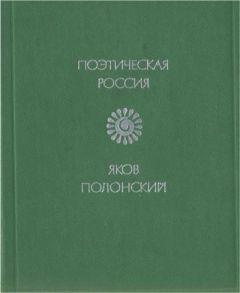В эту кофейню заходил я также читать журналы и встречал там Щепкина, Живокини, молодого Садовского и др. Белинский, кажется, уже уехал тогда в Петербург и стал участвовать в "Отечественных записках" Краевского.
Я совершенно забыл о существовании стихотворения "Арарат" и только на днях получил его из Москвы от Льва Ивановича Поливанова, причем прочел и вовсе не пожалел, что оно не вошло в общее собрание моих стихотворений. Вот вам небольшой образчик:
Стою я, неприкосновенный,
Уже пятидесятый век;
Но вот от Запада, надменный,
Пришел властитель человек,
Потомок праведного Ноя --
Везде: в краях полярных зим,
В странах тропического зноя,
Природа рабствует пред ним.
Не верит он моим преданьям;
Науке веру покорив,
Весь предан мертвым изысканьям,
Неутомим и горделив.
Он не почтил моей святыни;
Достиг, презрев мертвящий хлад,
Венца.-- "Я без венца отныне",--
Сказал -- и рухнул Арарат...
И с древних стен Эчмиадзина,
С дороги, где протянут вал,
И с плоской кровли армянина
Кричали: "Арарат упал!.."
Казак на лошади крестился;
Черкес коня остановлял;
Еврей испуганно молился,
Смотря, как легкий пар клубился
Там, где гигант вчера стоял.
И суеверно толковала
Разноплеменная страна;
И безотчетных дум полна,
Народам что-то предрекала...
И откуда я взял, что Арарат рухнул, после того, как нашлись смельчаки, которые взобрались на его вершину! Прочел ли я об этом где-нибудь или только слышал? Во всяком случае, факт этот не заслуживает доверия, и все стихотворение построено на фантазии, ничем не проверенной.
Во время пребывания у князей Мещерских редко получал я письма, но одно из них, из Москвы, огорчило и потрясло меня: некто студент медицинского факультета Малич, греческого происхождения, писал мне на клочке бумаги, что остался без квартиры, ночует на бульварных скамейках и, умирая с голоду, гложет кости скелетов. Я немедленно послал ему все мое месячное жалованье, около пятидесяти рублей, и послал нарочно через руки одного близкого мне знакомого богатого человека Геннади, также греческого происхождения, чтоб он, получив эти деньги, выдал их М--чу (которому он протежировал) собственноручно; этим поступком мне хотелось уязвить его. Не доказывает ли это, что в те наивные годы моей юности я был гораздо лучше или добрее, чем во дни моего многоопытного мужества и суровой старости?
Приближалась осень, но дни стояли теплые. 26-го августа был именинный день княгини: с утра приезжали соседи поздравлять ее. Был большой обеденный стол, наступил темный вечер, перед домом -- на широкой зеленой площадке, переполненной группами мужиков, баб и ребятишек, зажгли фейерверк, и вдруг одна ракета, вместо того, чтоб полететь вверх, полетела в сторону по направлению к деревне, зарылась в солому и подожгла кровлю. Через полчаса пылала почти что вся правая сторона деревни; народ бросился спасать свои пожитки; послышались стоны и вопли женщин; на пожаре распоряжался князь Борис Васильевич, старший сын хозяина. Застучали топоры, откуда-то прискакали какие-то пожарные с двумя трубами. Я видел, как обносили икону, и, когда возвращался в дом, меня поражала пустота ярко освещенных комнат; только одна княгиня, взволнованная, бледная, стояла на балконе. К утру пожар затих; дымились только обугленные остатки изб да торчали закоптелые печи. Князь обещал крестьянам на свой счет поставить новые каменные избы и сдержал свое слово. Вскоре после этого страшного события Клепфер и я с моими учениками выехали в Москву, но не прошло и двух недель, как они были обратно вызваны в Лотошино на панихиду или на похороны их матери: княгиня не вынесла такого потрясения, заболела горячкой и умерла.
IV
Графиня Растопчина и К. К. Павлова.-- А. И. Тургенев и А. Ф. Вельтман.-- Ап. Григорьев и Фет.-- Ю. Самарин.-- Лермонтов.
В Москве я поселился на время в доме Мещерских; и тут впервые встретил я поэтессу графиню Растопчину. Она была еще молода, очень мила и красива. Меня попросили прочесть ей мое стихотворение "Ангел", и я прочел его.
Из числа моих стихотворений наибольший успех выпал на долю моей фантазии "Солнце и Месяц", приноровленной к детскому возрасту: его заучивали наизусть, в особенности дети. Другая русская поэтесса, Каролина Карловна Павлова (урожденная Яниш), тоже знала его наизусть. Память ее была замечательная, и голова ее была чем-то вроде поэтической хрестоматии, не одних русских стихов, но и французских, и немецких, и английских. Муж ее, Н. Ф. Павлов, когда-то крепостной человек, вышел в люди тоже благодаря своим далеко не дюжинным способностям, конечно, женился он по расчету, так как девица Яниш была очень богата, но не хороша собой и старообразна. Книжка, изданная Павловым под заглавием "Три повести", имела успех благодаря своей тенденции или тонкому намеку на ненормальность и безвыходность положения для всякого сколько-нибудь способного человека, состоящего в полном рабстве и зависимости от господ своих. У Павловых впервые встретился я с Юрием Самариным. Он был очень молод и смешил хозяйку; но я не смеялся, так как не понимал его и не знал, кого он так мастерски передразнивает. Самарин среди дам и светского общества был далеко не таков, каким я встречал его в обществе Хомякова, Погодина, Грановского, Чаадаева и др. Тогда как Конст. Аксаков, наоборот, где бы он ни был, был постоянно один и тот же: горячо стоял за свои убеждения и был беспощаден. Не могу забыть, как в гостиной Ховриной он провозгласил, что брак не должен быть по любви и как я мысленно не соглашался с ним. У Павловых же впервые познакомился я с Ал. Ив. Тургеневым, редким гостем, которому дозволено было побывать в Москве. Он постоянно жил в Париже, куда отправился незадолго до восшествия на престол Николая I, и был заподозрен в сношении с декабристами.
В гостиную Павловых вошел он в шерстяном шарфе (дело было зимою). Это был старик, высокого роста, заметно привыкший ко всякому обществу; приехал он к Павловой спросить ее, когда он может прочесть ей отрывки из воспоминаний Шатобриана, которые, по его завещанию, не могли быть напечатаны раньше известного срока (не помню какого) после смерти его. Тургенев списал их в доме г-жи Рекамье и рукопись привез в Москву; он остался пить чай и был очень интересен; он был так любезен, что в своих санях довез меня до моей квартиры. С тех пор я уже и не видал его, и черты лица его давно уже стушевались в моей памяти.
Наиболее выдающимся стихотворением Н. Ф. Павлова был романс, когда-то положенный на музыку:
Не называй ее небесной
И от земли не отрывай.
Замечательно, что многие из числа тогдашних литераторов, вовсе не слывшие за поэтов, обмолвились превосходными стихотворениями. Вся Россия знала и пела:
Что затуманилась зоренька ясная,
Пала на землю росой.
И весьма немногие знали, что автором этого стихотворения был Вельтман. Песня эта была кем-то переведена в Крыму на татарский язык; и татары считали ее своей народной песней.
А. Ф. Вельтман был уже пожилым человеком, с небольшой лысиной и проседью в волосах; настолько же умный, насколько и добрый, он занимал место директора Оружейной палаты. Как знаток и любитель редких древностей и как человек образованный, он знал все славянские языки, изучал историю Богемии, но едва ли был славянофилом. Я во всякое время мог заходить к нему, и если он был занят за своим письменным столом, я с книгою в руках садился на диван и безмолвствовал.
Казенная квартира его была велика, и тихо было у него в доме; он жил со своею молоденькой дочерью. Мне было досадно, что эта милая девушка была далеко не из тех, которые могли бы пробуждать мечты мои; влюбиться в нее не помогала даже моя фантазия, но в это время я никого не любил и чувствовал пустоту в своем сердце; ходить же с пустым сердцем было для меня скучно. Я предпочел бы страдать. Странно, в провинциальной Рязани, когда я был еще гимназистом, немало встречал я замечательных красавиц и ни одной в Москве! Миловиднее всех была Елена Александровна Ровинская, блондинка с отпечатком на лице какой-то меланхолии и тайного страдания, точно какую-то рану носила она в душе своей.
Мое стихотворение "Пришли и стали тени ночи" было написано мной в такое время, когда я был еще целомудрен, как Иосиф. Фантазия, подсказывая мне только то, что могло бы быть, подсказала мне и это стихотворение; оно было послано мною Белинскому и напечатано им в "Отечественных записках"; это было второе уже стихотворение в этом журнале; первое же было: "Священный благовест торжественно звучит".
Быть может, вы спросите меня, что давали мне мои стихотворения? Ровно ничего -- ни одной копейки; мне даже и в голову не приходила мысль о гонораре; вывшей наградой для меня было самоудовлетворение или похвала таких товарищей, как Фет и Григорьев. Помню, Григорьев не раз повторял мне какие-то два стиха мои: