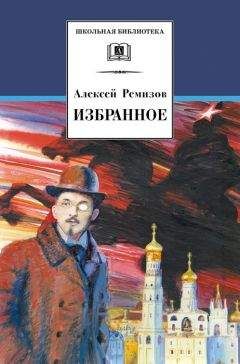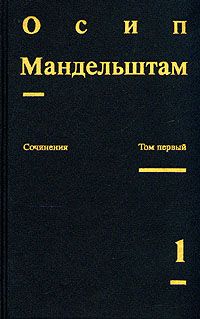– «Господи, чем поправлю? Господи, не могу забыть!»
XII. Красный звон
Город святого Петра – Санктпетербург!
Полюбил я дворцы твои и площади,
тракты, линии, острова, каналы, мосты,
твою суровую полноводную Неву
и одинокий заветный памятник огненной скорби —
Достоевского,
твои бедные мостки на Волковом,
твои тесные колтовские улицы,
твои ледяные белые ночи,
твои зимние желтые туманы,
твою болотную осень с одиноким
тонким деревцом,
твои сны,
твою боль.
Полюбил я страстны́е огни —
огоньки четверговые
на Казанской площади
и в стальные крещенские ночи
медный гул колокольный
Медного всадника.
Разбит камень Петров.
Камень огнем пыхнул.
И стоишь ты в огне —
суровая Нева течет.
* * *
Я стою в чистом поле —
чистое поле пустыня.
Я стою в чистом поле —
ветер веет в пустыню:
грём и топ,
стук железа.
В копотном небе вьется:
крылье, как зарево,
хвост, как пожар.
Наскочья нога ступила на сердце —
рас —
ка —
лена
душа.
* * *
Родина моя просторная, терпеливая и безмолвная!
Зацвели твои белые сугробные поля
цветом алым громким.
По бездорожью дремучему
дорога пролегла.
Темные темницы стоят настежь —
замки сломаны.
Или горе-зло кручинное до поры
в подземелье запряталось?
Или горе-зло кручинное
безоглядно в леса ушло?
Твоя горькая плаха на избы разобрана,
кандалы несносные на пули повылиты,
палач в чернецы пошел.
Родина моя просторная, терпеливая и безмолвная!
Зашаталась Русская земля —
смутен час.
Ты одна стоишь —
на голове тернов венок,
ты одна стоишь —
неколебимая.
По лицу кровавые ручьи текут,
и твоя рубаха белая
как багряница —
это твоей кровью заалели
белые поля.
Слышу, темное тайком ползет,
пробирается по лесам, по зарослям
горе-зло кручинное,
кузнецы куют оковы
тяжче-тяжкие.
* * *
Родина моя просторная, терпеливая и безмолвная!
Прими верных, прими и отчаявшихся,
стойких и шатких,
бодрых и немощных,
прими кровных твоих
и пришлых к тебе,
всех – от мала до велика —
ты одна неколебимая!
Из гари и смуты выведи
на вольный белый свет.
I. Пряники
Сосед Пришвин, пропадавший с самого первого дня в Таврическом дворце, – известно, там, в б. Государственной думе, все и происходило, «решалась судьба России», – Пришвин, помятый и всклокоченный, наконец, явился.
И не хлеб, пряников принес – настоящих пряников, медовых!
– По сезону, – уркнул Пришвин, – нынче всё пряники.
К Таврическому дворцу с музыкой водили войска.
Один полк привел «великий князь» – и об этом много разговору.
С войны приезжали солдаты, привозили деньги, кресты и медали —
– чтобы передать Родзянке.
Появились из деревень ходоки: посмотреть нового царя —
– Родзянку.
Родзянко – был у всех на устах.
И в то же самое время в том же Таврическом дворце, где сидел этот самый Родзянко, станом расположились другие люди во главе с Чхеидзе – «Совет рабочих и солдатских депутатов».
Тут-то, – так говорилось в газетах, – «Керенский вскочил на стул и стал говорить —»
Я заметил два слова – две кнопки, скреплявшие всякую речь, декларацию и приказ той поры:
– смогу.
– всемерно.
И Родзянко пропал, точно его и не бывало.
К Таврическому дворцу с музыкой водили войска.
С войны приезжали солдаты, привозили деньги, кресты и медали —
– чтобы передать Керенскому.
Появились из деревень ходоки: посмотреть нового царя —
– Керенского.
Керенский – был у всех на устах.
И третье слово, как третья кнопка, скрепило речь:
– нож в спину революции!
А красные ленточки, ими украсились все от мала до велика, обратились и совсем незаметно в защитный цвет.
И наш хозяин, не Таврический и не Песочный, другой, таскавший меня однажды к мировому за то, что в срок не внес за квартиру 45 рублей, – а ей-богу ж, не было чем заплатить и некуда было идти! – старый наш хозяин – человек солидный, а такой себе бантище прицепил пунцовый, всю рожу закрыло, и не узнать сразу.
Носили Бабушку —
Вообще, по древнему обычаю, всех носили.
Жаль, что не пользовались лодкой, а в лодке и сидеть удобнее, и держать сподручней.
Поступили, кто посмышленее, в есеры:
– в то самое, – говорили, – где Керенский.
«Бескровная революция, – задирали нос, – знай наших!»
«Бескровная, это вам не французская!» – дакали.
Демонстрации с пением и музыкой ежедневно.
Митинги – с «пряниками» – ежедневно и повсеместно.
Все, что только можно было словами выговорить и о чем могли лишь мечтать, все сулилось и обещалось наверняка – «пряники»:
земля,
повышение платы,
уменьшение работы,
полное во всем довольство,
благополучие,
рай.
Пришвин – агроном, человек ученый, в Берлине по-немецки диссертацию написал, Dr. М. Prischwin! – доказывал мне, что земли не хватит, если на всех переделить ее, и что сулимых полсотни десятин на брата никак не выйдет.
Я же никак не агроном, ни возражать, ни соглашаться не мог, я одно чувствовал: наседает на меня что-то и с каждым днем все ощутительней этот насед. И, не имея претензии ни на какую землю и мало веруя в «пряники» – наговорить-то что угодно можно, язык не отвалится! – карабкался из всех сил и отбивался, чтобы как-нибудь сохранить
свою свободу
самому быть на земле
самим.
И красную ленточку – подарок Николая Бурлюка, – надписав «революция», спрятал в заветную черную шкатулку к московскому полотенцу – петухами московскими мать вышивала, и к деревянной оглоданной ложке – памяти моей о Каменщиках, Таганской тюрьме.
………………………………………………………………….
II. Палочки
………………………………………………………………….
* * *
Нет, не в воле тут и не в земле, и не в рыви, и не в хапе, а такое время, это верно, вздвиг и взъерш, решительное, редчайшее в истории время, эпоха, вздвиг всей русской земли – России. Это весенняя накатывающая волна, в крути вертящиеся палочки – самое сумбурное, ни на что не похожее, весеннее, когда все летит кверх тормашками, палочки вертящиеся —
И я стиснулся весь, чтобы самому как не закрутиться такой палочкой.
Россия – Россия ударится о землю, как в сказке надо удариться о землю, чтобы подняться и сказать всему миру:
– Аз есмь.
– Но можно так удариться, что и не встанешь.
– Все равно, не хочу быть палочкой!
– Теперь это невозможно: или туда или сюда.
Я не все понимал, что говорилось во мне, и часто просто слов не было, а какая-то круть туда и сюда – обрывки слов.
А все сводилось: чтобы не растеряться и быть самим под нахлывающей волной в неслыханном взвиве вихря.
И что я заметил: звезды, которые я видел в канун, погасли, вихрь овладевал моей душой.
– Да, я бескрылый, слепой, как крот, я буду рыть, рыть, рыть —
………………………………………………………………….
III. О мире всего мира
Третья неделя, и с каждым уходящим днем входит новое – жуткое.
И эта жуть представляется мне все от праздности: на улицах, мне кажется, не идут уж, а «ходят».
Углубляется революция, – так сказала одна барышня из редакции.
И как была счастлива!
Я видел о ту пору счастливых людей: и их счастье было от дела.
– Революция или чай пить?
Другими словами:
– Стихия – палочки вертящиеся? – или упор, самоупор?
Те, кто в стихии – «в деле», – они и счастливы. Потому что счастье ведь и есть «деятельность».
И скажу, до забвения видел я тогда таких деятельных – счастливых.
Чай-то пить совсем не так легко, как кажется! Ведь чтобы чай пить, надо прежде всего иметь чай. А чтобы иметь чай – —
Есть, впрочем, одно утешение: эта стихия, как гроза, как пожар, и пройдет гроза, а ты останешься, ты должен остаться, вдохнув в себя все силы гроз.
– Но грозой может и убить!
Пришвин – увлекающаяся борода, – так его прозвали на собраниях, «увлекающейся бородой», – Пришвин все в ходу, не мне чета, но тоже не в деле, и вот приуныл чего-то.
«В мясе-то копаться человечьем – все эти вертящиеся палочки – вся эта накипь старых неоплатных долгов – месть, злоба – весь этот выверт жизни и неизбежность, проклятия – революция – нос повесишь!»
Соседки наши, учительницы, обе тихие, измученные.
Я часто слышу, как старшая жалуется:
– Несчастье мое первое, что я живу в такое время.
А другая кротко все уговаривает:
– Очень интересное время. После нам завидовать будут. Надо только как-нибудь примириться, принять все. И разве раньше лучше нам было?
– Да, лучше, лучше! – уж кричит.
И мне понятно:
«Как хорошо в грозу, какие вихри!»