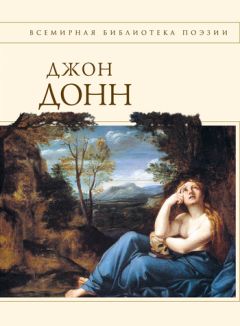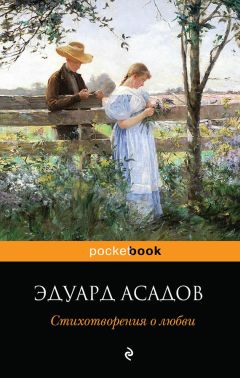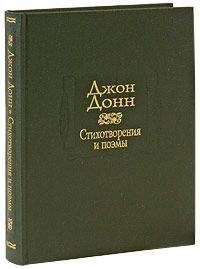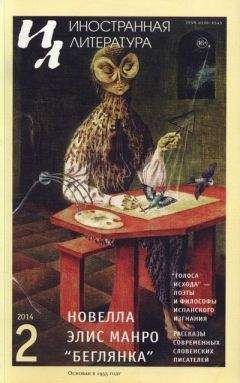ЛЮБОВНАЯ ВОЙНА
Пока меж нами бой, другим задирам
Дай отворот – и отпусти их с миром;
Лишь мне, прекрасный Град, врата открой! —
Возжаждет ли других наград герой?
К чему нам разбирать фламандцев смуты?
Строптива чернь или тираны люты —
Кто их поймет! Все тумаки тому,
Кто унимает брань в чужом дому.
Французы никогда нас не любили,
А тут и бога нашего забыли;
Лишь наши «ангелы» у них в чести:
Увы, нам этих падших не спасти!
Ирландию трясет, как в лихорадке:
То улучшенье, то опять припадки.
Придется, видно, ей кишки промыть
Да кровь пустить – поможет, может быть.
Что ждет нас в море? Радости Мидаса:
Златые сны – и впроголодь припаса;
Под жгучим солнцем в гибельных краях
До срока можно обратиться в прах.
Корабль – тюрьма, причем сия темница
В любой момент готова развалиться;
Иль монастырь, но торжествует в нем
Не кроткий мир, а дьявольский содом;
Короче, то возок для осужденных
Или больница для умалишенных:
Кто в Новом Свете приключений ждет,
Стремится в Новый, попадет на Тот.
Хочу я здесь, в тебе искать удачи —
Стрелять и влагой истекать горячей;
В твоих объятьях мне и смерть, и плен;
Мой выкуп – сердце, дай свое взамен!
Все бьются, чтобы миром насладиться;
Мы отдыхаем, чтобы вновь сразиться.
Там – варварство, тут – благородный бой;
Там верх берут враги, тут верх – за мной.
Там бьют и режут в схватках рукопашных,
А тут – ни пуль, ни шпаг, ни копий страшных.
Там лгут безбожно, тут немножко льстят,
Там убивают смертных – здесь плодят.
Для ратных дел бойцы мы никакие;
Но, может, наши отпрыски лихие
Сгодятся в строй. Не всем же воевать:
Кому-то надо и клинки ковать;
Есть мастера щитов, доспехов, ранцев…
Давай с тобою делать новобранцев!
О, где огонь поэзии священный?
Ужель иссяк во мне сей дар бесценный?
Мой Стих, что воссоздаст предмет любой,
Пред лучшим из созданий, пред тобой,
Молчит. От слез угасло Вдохновенье,
Но почему не гаснет вожделенье?
Я с собственными мыслями в борьбе
Изнемогаю: все летят к тебе!
Царящий в сердце образ твой желанный,
Как воск, расплылся, жаром осиянный,
И, раздувая в сердце этот жар,
Во мне ты гасишь Зренье, Разум, Дар.
Но Память – я бессильна перед нею.
Забыть пытаюсь и забыть не смею!
Весь облик совершенный твой таков,
Что вправе ты украсить сонм богов.
Не видевший Олимпа да узнает:
Подобные тебе там обитают.
И если каждый, кто рожден дышать,
Есть малый мир, то как тебя назвать?
Сказать, что краше ты, стройней, нежнее
Зари рассветной, Кедра и Лилеи?
Пустое! Ведь с твоей рукою, знаю,
Сравнится лишь твоя рука вторая.
Таким недолго был Фаон, но ты
Вовек не потеряешь красоты!
Такою кто-то видит в обожаньи
Меня, но я страдаю, а Страданье
Не красит, и перебороть его
Я силюсь ради взгляда твоего.
С тобою мальчик на лугу играет,
Нет, вас еще не страсть соединяет,
Но над губой его уже пушок
Напоминает грозно мне: дай срок.
О тело милой! – Райский сад блаженства,
Пусть невозделанный, но совершенство
Не станет совершенней, так к чему
Садовник грубый саду твоему?
Мужчина – вор, который никогда
Не подойдет по снегу без следа;
А наши ласки без следа могли бы
Витать, как птицы в небе, в море – рыбы:
Тут все возможны изъявленья чувства —
Как Естество подскажет и Искусство.
Ланиты, губы, стан у нас с тобой
Различны ровно столь, сколь меж собой —
Твои ланиты. Право, если в губы
Дозволен поцелуй, то почему бы,
При сходстве упоительном таком,
Ах, не соединиться нам вдвоем
В сплетенье рук и ног? В таком сравненье
Столь странный искус самообольщенья,
Что страстью я к самой себе горю
И ласки, как тебе, себе дарю.
Ты в зеркале стоишь перед глазами,
Прильну – и залито оно слезами.
Отдай же мне меня, ты вся моя,
Ты – это я, ты – более, чем я.
Блистай румяной свежестию вечной
И несравненной белизною млечной,
Красою исторгая вновь и вновь
У женщин – зависть, у мужчин – любовь!
Всегда будь рядом, перемен не зная
И от меня самой их отдаляя.
Твоя возлюбленная – в крик: «Ему милы
лишь шлюхи!»
Какие же о ней теперь пойдут по свету слухи?
За то, что женщин я люблю,
Ты женственным меня зовешь;
Что ж – мужественным звать тебя
За то, что ты к мужчинам льнешь?
Так бурно клялся он, что к шлюхам ни ногой,
Что сунуть нос теперь не смеет он домой.
Кто скажет, что ему не до жены?
Ведь он такой любитель старины.
Отец твой завещал всё беднякам. Коль так,
И ты не обделен – ведь ты теперь бедняк.
На свой портрет лишь тем похожа Фрина,
Что размалеваны и девка и картина.
Бедняга! сколько он потел напрасно,
Стараясь темным быть. А всё с ним ясно.
Пока число твоих грехов растет,
Число волос – заметь – наоборот.
Ральф умер стоя – так же, как и жил:
Он ложе еще раньше заложил.
С охваченных пожаром кораблей
Куда бежать, как не в пучину? Люди
Бросались вплавь – и гибли средь зыбей
Под выстрелами вражеских орудий.
Несчастным нет спасения нигде:
Кто не утоп в огне, сгорел в воде.
Не раз случалось людям уплывать
Вослед за Солнцем, уходящим спать.
Но дальше Уингфилда, который флот
Увел в края блаженных, на заход,
Никто и никогда не заплывет.
Ступай, бездельник: я тебя не звал!
В каморке этой узкой, как пенал,
Оставь меня средь книг в моем вертепе
Наук: да упокоюсь тут, как в склепе.
Вот там, на полке – важный Богослов;
А рядом – друг природы, Философ;
Политик, объясняющий мытарства
Мистического тела Государства;
Прилежный Летописец; а за ним —
Поэт, земель волшебных пилигрим.
Ужель я брошу их единым махом,
Чтоб за тобой бежать, за вертопрахом?
Нет, клятвенно мне обещай сперва
(Когда не ветер – все твои слова),
Что ты не ускользнешь через минуту
К любому в лоск разряженному шуту, —
Будь капитан, что выкроил наряд
Из жалованья выбывших солдат,
Или придворный щеголь надушенный,
Кивком ответствующий на поклоны,
Или судья со свитой подлипал, —
Клянись, что ты не станешь за квартал,
Осклабившись, вилять и суетиться,
Стремясь понравиться и подольститься.
Зовешь меня – так не блуди душой;
А соблазнить и бросить – грех большой.
О пуританин в области манер,
Ты – идолопоклонник, суевер,
Когда по платью ближнего встречаешь
И, как старьевщик, сразу примечаешь
Цену сукна и кружев, дабы знать,
На сколько дюймов шляпу приподнять.
Ты первым делом выясняешь средства
Знакомца – и надежды на наследство,
Как будто замуж он тебя берет
И вдовья часть – предмет твоих забот.
Помилуй! ведь не ленты и не рюшки
Ты ценишь в пышнотелой потаскушке;
Зачем, любитель срамной наготы,
Нагую честность презираешь ты?
Нужны ли добродетели камзолы?
Мы в мир приходим и уходим голы.
Не скинув плоти плащ, душе никак
Блаженства не вкусить; Адам был наг
В раю; да и утратив рай невинный,
Довольствовался шкурою звериной.
Пусть грубый на плечах моих наряд —
Со мной Господь и Музы говорят.
Что ж! Если ты не глух к увещеваньям
И грех свой искупаешь покаяньем,
Прегромко в грудь себя бия притом,
Добро, я запер комнату, – идем!
Но прежде шлюха средь носящих пряжку
На шляпе, буфы и чулки в обтяжку
Признает настоящего отца
Нагулянного невзначай мальца,
Скорей я вам скажу, какому франту
Дано увлечь йоркширскую инфанту,
Скорей, уставясь в небо, звездочет
Предскажет вам на следующий год,
Какие сверхъестественные моды
Измыслят лондонские сумасброды,
Чем сам сумеешь ты сказать, зачем,
Какая блажь, когда, куда и с кем
Тебя утащит, разлучив со мною.
Кому пенять? я сам тому виною.
Вот мы на улице. Мой дуралей
Спешит к стене протиснуться скорей,
Считая, видимо, за достиженье
Свободу поменять на положенье.
И хоть трудней из-за моей спины
Приветствовать все встречные штаны,
Он издали кивает им и машет,
И дергается весь, и чуть не пляшет,
Как школьник у окна, когда друзья
Зовут на волю, а уйти нельзя.
Скрипач тем ниже зажимает струны,
Чем выше звук; так мой повеса юный:
Задравшим нос он отдает поклон,
С другими же заносчив, точно Слон
Иль Обезьяна – при упоминаньи
Враждебного нам короля Испаньи.
То вдруг подскочит он и в бок толкнет:
«Гляди, вон кавалер!» – «Который?» – «Тот!
Божественный танцор, ей-ей!» – «Так что же?
Ты с ним подпрыгивать обязан тоже?»
Он смолк, пристыженный. Но тут как раз
Заядлый табакур встречает нас,
Да с новостями… «Сжалься, бога ради, —
Шепнул я, – нос мой молит о пощаде».
Увы, он не расслышал, ибо вдруг
Какой-то расфуфыренный индюк
Привлек его вниманье. Он метнулся
К нему стремглав, расшаркался, вернулся
И так запел: «Вот истинный знаток
Отделки; каждый вырез, бант, шнурок
И весь костюм его – неподражаем,
Не зря он при Дворе так уважаем». —
«Он был бы и в комедии хорош.
А перед кем теперь ты спину гнешь?» —
«О, этот за границей обретался,
В Италии манер он понабрался,
В самом Париже чуть не год пробыл!» —
«И что же он в Париже подцепил?» —
Осведомился я. Он не ответил,
Поскольку издали в окне приметил
Знакомую красотку. В тот же миг
Тут испарился он, а там возник.
Увы, у ней уже сидели гости;
Он вспыхнул, в драку сунулся со злости,
Был крепко бит и выброшен за дверь;
И вот – в постели мается теперь.