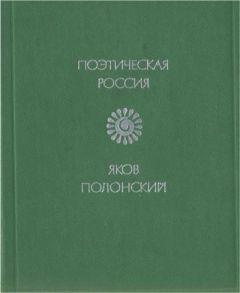Статья о моих "Гаммах" не осталась без влияния на мои отношения к знакомым; некоторые из них очевидно были ею озадачены и огорчены.
Вспоминаю, например, студента К.,-- о котором упоминает и Фет, говоря, что один из моих товарищей, а именно Жихарев, ставил мне в пример стихи его и знал наизусть отрывки из его поэмы, очень плохой, как по вялости стиха, так и по содержанию. С этим К. я был лично знаком и даже навещал его. И что же? После статьи в "Отечественных записках", встретившись со мною на Тверском бульваре, он бросился в сторону и скрылся, чтоб не пожать мне руки и не заговорить со мною. Некто X. (в эту минуту никак не могу вспомнить его фамилии), когда услыхал от одной знакомой мне дамы, Змеевой, отзыв о стихах моих, вскрикнул, как ужаленный: "Да что же это такое? Неужели вы хотите, чтоб и я признавал его поэтом!" С этим X. лет семь или восемь спустя встретился я в Петербурге в Императорской публичной библиотеке, где он состоял на службе, и он отнесся ко мне не только благосклонно, но и с предупредительным вниманием.
Зато С. В. Воробьевский, когда, после статьи в "Отечественных записках", я зашел к нему, бросился обнимать меня, был так радостен и светел, что мне казалось, что он во сто раз больше рад и счастлив моему первому успеху, чем я сам.
VIII
Сережа Воробьевский.-- Идеализм.-- Дом Постниковой.-- Переселение в Одессу.
Личность этого Сережи Воробьевского настолько оригинальна, что я не могу отказать себе в удовольствии кое-что рассказать о нем. В Москве, около Никитских ворот, против церкви Вознесения, был одноэтажный деревянный дом, серый с белыми ставнями. Дом этот принадлежал доктору Воробьевскому. Он уже был стар, когда я с ним познакомился; среднего роста, на широких плечах носил он большую голову с большими оттопыренными ушами, круглое, выбритое лицо его казалось как бы обрюзглым, но, когда он был весел, что случалось редко, он был не только со мной приветлив, когда я приходил к нему, но, как говорится, в душу лез. Во всей его фигуре и в его выговоре было что-то хохлацкое. Он уже не занимался практикою, но из ханжества, а не из любви к ближнему, лечил бедных, даже нищих с улицы, которые каждое утро наполняли его переднюю. Нигде в других домах не встречал я такой неряшливости, как в этом доме. Маленький кабинет доктора был его спальней и его библиотекой. Комнатка эта особенно отличалась своим беспорядком и пылью. Вообще на внешность не обращалось никакого внимания. Он жил с женою, двумя дочерьми, из которых младшая, Евгения, была еще ребенком. Младшие сыновья его еще где-то учились, редко выходили из задних комнат, и я почти что никогда не видел их; старшего же сына, Сережу, постоянно встречал или за перегородкой -- с одним окном, около передней, где больным перевязывали раны и язвы под его наблюдением, или в гостиной за фортепиано.
У этого Сережи была замечательная память, он шутя выучивался понимать иностранные языки и, помимо древних языков, знал почти что все европейские. Стоило ему глазами пробежать сотни иностранных слов, чтоб они навсегда врезались в его памяти. Что ж мудреного, что в гимназии постоянно он был первым учеником и в университете оказался одним из лучших студентов. Но недолго пришлось ему быть в университете. Однажды, испуганный и бледный, входит он к отцу и говорит ему: "Папа! Ради бога, запрети ты ездить по Никитской; разве ты не знаешь, что эта Никитская у меня в голове". Понял старый доктор, что сын его говорит, как помешанный. Пришлось взять его из университета и лечить. Так как это сумасшествие было тихое и не всегда проявлялось, Сережа лечился дома, и отец придумал ему занятие. И уж не знаю, взял ли он для него учителя музыки или сын его знал уже ноты раньше своего поступления в университет,-- знаю только, что он стал играть и в два-три года сделался артистом. Пальцы его приобрели силу и поразительную беглость. Технических трудностей уже для него не существовало. Проиграть наизусть концертную пьесу Листа ему уже ничего не стоило.
Удивительная память и тут его не оставляла; он помнил, что было разыграно по нотам, и играл на память без малейшей ошибки. Приходить и слушать игру его было для меня великим наслаждением. Он же играл без устали и всегда готов был отдаться своей вдохновенной игре. Музыка его вылечила. Он совершенно освободился от своих диких мыслей. Осталось только одно: он боялся проезжать через площади. И позднее никогда никто не мог уговорить его поехать по железной дороге. Чуждый света, прямодушный и доверчивый, он соглашался иногда ехать со мною к моим знакомым и поражать их игрой своей. Как ребенок, был он наивен и самоотверженно послушен. Иногда отец свистом призывал его к себе в кабинет и заставлял читать себе Четьи-Минеи, псалмы, или акафисты, по старым книгам в кожаных переплетах, с страницами, закапанными воском,-- и он читал. Посылал ли отец его в переднюю принимать и допрашивать больных,-- он шел допрашивать больных и вместо отца прописывал им рецепты. Полагаю, что и тут помогала ему его необыкновенная память. Раз я зашел к нему вечером, под какой-то праздник. Я попросил его сыграть мне одну из любимых пьес Бетховена; он стал играть. Вдруг отворилась дверь, и в гостиную явилась старуха, в каком-то грязном капоте, растрепанная и гневная, может быть, старая нянька: "Что ты делаешь, греховодник! -- крикнула она на него.-- Звонят ко всенощной, на молитву зовут, а ты тут бренчать вздумал,-- опомнись!" -- И Сережа, улыбаясь, тотчас же закрыл фортепиано и, обернувшись ко мне, конфузливо, но без малейшей досады в голосе, сказал: "Видно, нельзя,-- уж такое у нас положение".
Так же, как и я, Воробьевский никогда не играл ни в карты, ни в шахматы и никогда ни с кем не спорил, так как все спорщики были или невеждами и обскурантами, или гораздо его ученее и развитее. Больше всего интересовали его лучшие художественные произведения иностранных литератур, в особенности немецкой. Если бы он не был ни на что другое способен, как только долбить и долбить, Нибур не увлекал бы его своими широкими взглядами на историю и не могли бы нравиться ему отрывочные произведения Жан-Поля Рихтера,-- эти в своем роде стихотворения в прозе,-- и он не находил бы в них глубины или опоэтизированной философии.
Как все это старо для 90-х годов или для тех новых поколений, которых удовлетворяет модная сушь и которые видят в одних социальных теориях и мечтах все свое спасение! Но все, что старо в наше время, было так все еще ново для общества 40-х годов, общества, пробуждавшегося для умственной деятельности, анализа, понимания искусств и в бескорыстной мечте, не в одних естественных науках, жаждавшего найти себе умственное и нравственное удовлетворение. Я, признаюсь, бессовестно пользовался теми способностями и знаниями языков Воробьевского, в которых мне было отказано. Если б я сказал ему: выучить по-арабски или по-санскритски, чтоб ты мог передать мне отрывки из Корана или "Магабгараты",-- он в несколько месяцев выучился бы этим языкам, чтоб только исполнить мое желание. Когда после каникул я воззращался в Москву и заходил к нему, он трепетал и визгливо смеялся от радости, как будто лучшие минуты в его жизни дарил я ему моим присутствием. Байрон высоко ценил собаку за ее верность и привязанность к своему хозяину. Он ставил эти качества ее в пример людям, в которых ничего, кроме эгоизма, не видел. Сережа Воробьевский -- скажу, не преувеличивая,-- любил меня или был ко мне привязан, как собака к своему хозяину, хоть я и не кормил его. Может быть, это и смешно, но у меня никогда не хватило бы духа осмеять его; и добро бы он был еще мальчик, но ему было уже около двадцати пяти или двадцати шести лет. Однажды, после моего долгого отсутствия, я спросил у него, не был ли он у Генриетты Федоровны Брок (сестры министра финансов). Она жила в Москве, как я уже сказал, с своим братом Федором Федоровичем Броком, домашним врачом в семействе Орловых, с своей воспитанницей Серафимой. "Я никогда у них не буду,-- отвечал мне Сережа,-- не буду оттого, что она вас бранит, говорит, что вы не умеете вести себя в обществе, слишком много о себе думаете и что ваши манеры ей очень не нравятся".
Почему именно в своих воспоминаниях я говорю о Воробьевском подробнее, чем о других? Конечно, не потому, что он любил меня, а потому, что никогда во всю жизнь мою не встречал я человека такой чистой и светлой души, который никогда о себе не думал, не гордился никакими своими преимуществами, ни способностями, ни талантом; никогда ими не хвастался и, будучи артистом и даже композитором далеко не дюжинным, ни разу не подумал о том, какие из этого могут произойти выгоды, и никогда ни с кем себя не сравнивал, и никому не завидовал. Как он был бесконечно счастлив, когда ему удалось найти себе место где-то в оркестре Большого театра, когда Лист давал свой концерт и когда все до единого места, до самого райка, были заняты. "Это бог, это величайший из музыкантов",-- говорил он, млея от восторга. А эти восторги и для меня были заразительны.