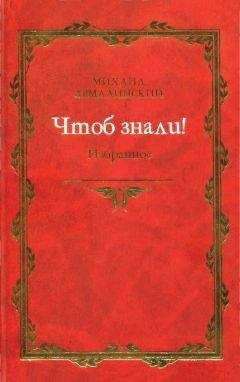Ей наконец стало понятно, что художественная слава ей не светит, так что она устроилась в пекарню, тесто катать. Пусть потрудится на обратный билет. Но она бредит каким-то женихом, который, мол, скоро должен эмигрировать и на ней жениться. Жених этот напоминает мне её многочисленных знакомых в Америке, у которых она намеревалась остановиться и которых просто не оказалось в наличии.
Всё я попадаю на баб, за которыми я хожу, ухаживаю, забочусь после того, как мы сближаемся, а не для того, чтобы сблизиться. Попадались мне, конечно, заботливые, но те, от которых мне было тошно, а тем более от их заботы. Я говорю о тех, с кем я спутывался надолго. Так и с Карен. Всё я играл с ней в папу. А мне бы хотелось, чтобы она мне в ответ была мамой, а она была злой мачехой.
Ты просил меня описать наш последний день вместе. Что ж, «у меня секретов нет, слушайте, детишки».
Вечером, когда уже было решено, что завтра я уезжаю от неё, мы пошли погулять, как часто это делали в конце дня. Разговор был мирным, и я пытался приучить себя к мысли, что это последний раз мы так гуляем, и руки наши всё ещё соприкасались по привычке. И хоть ясное ощущение правоты принятого решения не проходило, мозг ещё не мог осознать, что близость, общая судьба – всё это исчезнет на следующий день. Когда мы легли в постель, я предложил в последний раз заняться любовью. Карен без энтузиазма развела ноги, а я встал на колени перед пиздой, её роскошной пиздой. Коленопреклонённый перед коленоразведённой! Восторженная медитация перед пиздой. Надо отдать должное Карен – она была с идеальными чертами пизды.
Я смаковал «последний раз», о феномене которого я так часто задумывался, потому что был им зачарован. Последний раз, как правило, проходит неузнаваемым, и только потом, когда за ним уже не появляется следующий, ты начинаешь осознавать, что он был последним, и коришь себя, что не посмаковал его, не выжал из него всего что только можно было на прощанье. А тут я точно знал (и впервые в жизни), что раз этот – последний, и я упивался им, рассматривая и запоминая её пизду.
Я умышленно не хотел заниматься возбуждением Карен и трудиться, чтобы она кончила. Её оргазм мог бы вызвать прилив у неё уже никчёмных эмоций, которые могли бы лишь осложнить выполнение моего решения. Да и она явно не хотела поддаваться никаким чувствам. Я развёл её губы и смотрел на диво. Карен тем временем холодно наблюдала за мной. Я послюнявил хуй, приставил ко входу, стенки которого послушно раздвинулись, и он погрузился в омут счастья. Я не позволял себе забыть, что это последнее ощущение божественной плоти её нутра. Я продолжал оставаться на коленях, чтобы смотреть на чудо сопряжения плоти. Туда и обратно, из пустого в порожнее, пока оно не заполнится даром небес. Я взглянул в лицо Карен, которая отстранённо смотрела на меня. «Дура и стерва, – подумал я, – но надо же, с такой великолепной пиздой».
И в этот момент я почувствовал, как подкатывается оргазм. Я впился глазами в её клитор, вылезший из-под капюшона, и, когда начались спазмы, я лёг на неё, просунув одну руку ей под зад и расплющивая её бёдра о свои. Другой рукой я обхватил её талию. На этот раз, когда я кончил, она даже не подалась мне навстречу. «Ну, и хуй с тобой», – подумал я облегчённо и вытащил его, что хоть и было противоречием, но уместным.
Карен сразу пошла в туалет. Она не подмывалась, а просто садилась на унитаз и ждала, чтобы сперма вытекла. Она, видите ли, не любила спать на мокрой от вытекшей спермы простыне. Она вообще не любила сперму и никогда её не глотала. Одним из предлогов для этого было то, что она на диете, избегала лишних калорий. Тоже мне, женщина.
Она вернулась, легла, мы сказали друг другу «спокойной ночи», и я заснул без всякого труда.
Среди ночи я услышал сквозь сон, как она поднялась и пошла в туалет, что для неё необычно, так как она спит всю ночь напролёт, копя мочу в своём огромном мочевом пузыре. Но в эту ночь она поднялась и, сделав несколько шагов, с грохотом упала на пол. Услышав звук упавшего тела, я вскочил и бросился к ней. Я обнял её за плечи и приподнял. Чувство жалости вытеснило все остальные чувства.
– Ты не ударилась? – спросил я, с колотящимся от сострадания сердцем и прижимая её к себе, как ребёнка.
Она не потеряла сознание, что с ней случалось часто – слабость и потеря равновесия при быстром вставании с кровати. Гнусное кровообращение.
– Всё в порядке. Прости, что разбудила тебя, – сказала она прохладно. Она поднялась с пола, я довёл её до туалета, она отструилась, вернулась и легла.
Утром Карен ушла на работу, а я погрузил свои вещи на грузовик и в три приёма перевёз всё в дом своих родителей. Я оставил ей всю мебель, моё стерео, кухонные причиндалы, книги по графике и забрал только компьютер и свои книги да книжную полку. Когда же я позже попросил её дать мне одну из её тоненьких эротических книжек, которые она при мне никогда не читала, а остались они у неё со времён её девичьей ебальной жизни, то у неё заняло минуту раздумий, прежде чем с неохотой согласиться её мне пожертвовать. Теперь, когда я вспоминаю, как она упала ночью, у меня уже нет жалости, а только ухмылка:
– Кто там лежит на полу?
– Там ступор с бабою-ягой.
Б.
СЕРГЕЙ – БОРИСУ
С твоими суждениями о нашей ситуации и о необходимости уезжать согласен на сто процентов. У нас всё построено на том, чтобы не позволить кому-то жить лучше, чем тебе. Чтобы испортить жизнь тому, кто сумел сделать то, о чём ты сам только мечтал.
Наше государство похоже на медведя, перед которым лежит гора еды, и эту гору растаскивают мыши. Еды хватило бы всем, но тупой и неразворотливый медведь, вместо того чтобы есть, занят лишь тем, что озирается на мышей и пытается их прихлопнуть.
Говоря объективно, все гири – на одной чаше весов. Но у меня, увы, свои весы. На одной чаше – о чём пишешь ты, усиленное личными впечатлениями и ощущениями. Плюс чудовища-соседи. На другой же чаше гирь немного, но они тяжелы. Самая тяжёлая – это вольная жизнь, которую я сейчас имею. Полностью распоряжаюсь временем своей жизни. В каждый момент делаю что хочу и не испытываю денежных затруднений. Правда, и покупать сейчас нечего, кроме примитивной жратвы, но мне ничего особо и не надо. Если бы я знал, что смогу прокормиться в Штатах только своей живописью, это бы сильно меня окрылило.
Второе, что меня не пускает, это, как ты знаешь, патологическая любовь к некоторым здешним местам, которые я должен для душевного комфорта посещать достаточно часто. Но здесь я получил очень тяжёлый удар: в моих любимых грибных местах под Выборгом, где я знал каждое дерево, устроили, сволочи, садоводство. Прямо в грибных лесах! Такой кусок души отрезали! Так что оглянусь кругом – осталась только Луга, да и там все леса заезжены машинами. Вот так теряю любимые места, даже никуда не уезжая.
Я вдруг понял, что у меня здесь нет друга. Нет человека, к которому мог бы кинуться в тяжёлую минуту, и он бы помог или хотя бы облегчил душу. Ни женщины, ни мужчины. То есть я обнаружил ещё один дефицит, всеобщий дефицит жизненных сил и энергии. Почувствовал, что все, кому я нужен, хотят у меня эту энергию получить. И пока я чувствовал её избыток, мне это было приятно и отношения с людьми казались вполне гармоничными. Теперь же, когда самому понадобилась подпитка, вижу, что у меня нет источника питания. Ты, Борь, единственный, к кому бы я в такой ситуации кинулся. Но ты, увы, далеко.
Вера? Она сама всегда требует подпитки. Когда мы познакомились, она казалась переполненной жизненной энергией и сама говорила, что полна жизненных сил. Но постепенно выяснилось, что их запас очень мал, что любое даже бытовое затруднение может повергнуть её в глубокую депрессию. Даже недосып или легкий голод меняют её кардинально. В этом отношении наблюдается поразительное сходство с твоей Карен.
Сергей
БОРИС – СЕРГЕЮ
Ты из последних сил уговариваешь себя в любви к родине. Люби её (в рот), но приезжай посмотреть на её конкурентку – Америку. Она тебе даст столько энергии, что ты сможешь накачивать ею Веру, пока та не запросит у тебя пощады.
А я всё не могу не вспоминать, так что придётся тебе потерпеть. Дрянцо сущности Карен неизбежно гнило и в её половой жизни. Вот тебе ещё сексуального дерьма кусочек. В самый первый раз и в несколько последующих разов, когда я лизал её, она будто бы кончала, смеясь. На моё удивление дурацкому неуместному смеху Карен отвечала, что смех – проявление её восторга. Но позже, свидетельствуя её бесспорные оргазмы, я-то видел, что во время них ей не до смеха – как и должно быть: уж слишком это серьёзное дело – оргазм. Смеялась она тогда потому, что не кончала, а лишь возбуждалась до такого уровня, когда терпеть продолжающееся возбуждение от языка было тяжело, и потому она смеялась, а чтобы остановить меня, притворно мычала и говорила, что кончила.
Есть, правда, одно хорошее воспоминание. Летом в первый год она бездельничала, пока я в конце концов не заставил её найти работу, – спала до десяти, потом нажиралась всего подряд и впадала в депрессию от перееда. Она между прочим приготавливала мне ленч, что служило оправданием её ничегонеделания, и я приходил с работы поесть, да мне и хотелось повидать свою новоиспечённую жёнушку лишний раз. До еды я, конечно, бросал ей палку. Карен не хотела тратить время на раздевание и задирала юбку или спускала джинсы. Она сгибалась в поясе и, ожидая меня, раздвигала обеими руками ягодицы. Её ярко наманикюренные ногти сверкали в унисон с открывшейся розовой плотью. Её пизда была расположена близко к заду, так что эта позиция была для неё весьма привычной. А когда она лежала на спине, ей приходилось высоко задирать ноги, чтобы влагалище оказалось в зоне действия.