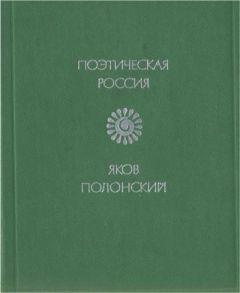Мы ложились рано и вставали не поздно. Тургенев просыпался раньше всех, уходил смотреть вновь строившиеся конюшни или бродил по саду, или, стоя на террассе, кормил белым хлебом воробьев... Затем отправлялся в свою туалетную: это была очень маленькая, квадратная каморка, окно которой с матовыми стеклами, выходя на двор, пропускало свет через дверь в коридор, тоже скозь матовые стекла. Там стоял умывальный столик, зеркало и разные туалетные принадлежности.
Конечно, у пушкинского Евгения Онегина было гораздо более этих принадлежностей, и тот недаром выходил из уборной "подобно ветреной Венере".
Тургенев же был очень чистоплотен -- ежедневно менял фуфайку, белье и весь вытирался губкой -- одеколоном с водой или туалетным уксусом. Что касается до прически волос, то, если не ошибаюсь, это была довольно длинная история. Не раз случалось мне ночевать с Тургеневым в гостиницах в одном с ним номере, а случалось это по большей части летом, когда я приезжал к нему с дачи и нередко ожидал его позднего возвращения из гостей, или накануне его отъезда за границу, так как накануне днем трудно было застать его.
Итак, ничего нет мудреного, что Тургенев не раз при мне совершал свой утренний туалет и при мне чесал свои волосы.
Раз он был очень доволен, что процедура эта повергает меня как бы в некоторое изумление.
"Видишь,-- говорил он, весело поглядывая на меня своими вечно товарищескими, добрыми глазами,-- я беру эту щетку... теперь я начинаю чесать ею вправо: раз, два, три... и так до пятидесяти раз; теперь начну чесать влево, и тоже до пятидесяти... Ну вот, теперь со щеткою кончено... Беру этот гребень,-- им я должен до ста раз пройтись по волосам... Чему ты удивляешься? Постой, это еще не все... Погоди, погоди!.. За этим гребнем есть еще другой -- с частыми зубьями..."
И уж не знаю, шутя или не шутя, Иван Сергеевич уверял меня, что он ежедневно проделывает точно такую же операцию.
"Ни одной соринки, ни одной пылинки не должно быть у меня в волосах,-- говорил он, уже одеваясь.-- Причесываться -- это страсть моя, это у меня с детства. Когда мать моя еще "носила меня под сердцем", на нее, ни с того ни с сего, вдруг напала мания всех причесывать. Призывала горничных, сама расчесывала им косы и сама заплетала. Раз, в Москве, с улицы позвала она какого-то инвалида-солдата, должно быть, нищего. (Воображаю себе, в каком порядке была его шевелюра!) -- усадила его за свой туалет, вычесала, причесала, напомадила, дала ему денег и отпустила... Может быть, эта мания и перешла ко мне от матери".
При этом замечу кстати: Тургенев был уверен, что темя его с детства не совсем заросло и что мозг его, на том месте, где небольшая впадина, сверху прикрыт одною кожей.
"Когда я еще был в пансионе, школьником,-- говорил он мне в Спасском,-- всякий раз, когда кто-нибудь из товарищей пальцем тыкал мне в темя, со мной делалась дурнота или головокружение, и так как детский возраст не знает жалости, то иные нарочно придавливали мне темя и заставляли меня чуть не падать в обморок..."
Тургенев, конечно, не совсем на этот счет ошибался: врачи, которые исследовали его после смерти, нашли, что черепная кость его очень тонка и, весьма вероятно, на темени она была еще тоньше,-- так тонка, что подавалась или вдавливалась при сильном нажатии, особливо в раннем, отроческом возрасте.
Аккуратность Тургенева не уступала его чистоплотности и точно так же могла обходиться без всякой прислуги, как и одеванье.
Раз он ночью вспомнил, что, ложась спать, позабыл на место положить свои ножницы: тотчас же зажег свечу, встал и тогда только вернулся в свою постель, когда все уже на письменном столе его лежало как следует. Иначе он и писать не мог.
Не могу при этом не вспомнить, как в Спасском Тургенев, точно нянька, приводил в порядок детские разбросанные вещи: найдет ли фуражку, забытую на стуле,-- тотчас повесит на вешалку; найдет ли зонтик -- тотчас поставит в угол. Мало этого, иногда в наше отсутствие, заходя к нам в комнату, все приводил в порядок, без всякой ворчливости; убирал стол и платья вешал на гвоздики.
Подметив это, мы сами сделались аккуратнее и заботились о том, чтобы все было в отменном порядке.
Многим это покажется мелким и не стоящим внимания; но, кто знает, может быть фраза "ни одной соринки в волосах" обусловливала другую фразу, которую мог бы сказать Тургенев: "ни одного ненужного словца, ни одной лишней подробности в моих рассказах". В личности человеческой нередко великие, всем явные достоинства тесно связаны с мелочами и даже недостатками.
Тургенев был мнителен: туманный Альбион и морские путешествия заставили его надеть фуфайку во избежание простуды, и по примеру англичан летом носил он шелковую, зимой -- шерстяную.
Раз я ему посоветовал носить шерстяные фуфайки не на теле, а сверх ночной рубашки.
Тургенев, подняв брови, поглядел на меня вопросительно и сказал:
-- А это было бы так же полезно, как если бы воробей пролетел у тебя над головой.
-- То есть не было бы достаточно тепло? Ну, в таком случае, надевай две фуфайки.
-- А это было бы так же полезно, как если бы два воробья пролетели у тебя над головой.
И затем Тургенев стал мне доказывать, почему именно шерсть полезно носить именно на теле, как это и делают все путешествующие англичане, и не столько зимой, сколько летом, в самое жаркое время.
Этот в сущности пустой разговор я привожу только ради забавной оригинальности его возражений. Неожиданные, иногда очень смешные сравнения были присущи его самой простой обыденной речи и невольно запоминались.
К утреннему чаю, в столовую или на террасу, около 9 часов, Тургенев являлся, по большей части, в очень хорошем настроении духа и уж, конечно, без единой соринки в седых, но еще густых и красивых волосах, несмотря на то, что уже глубокие морщины бороздили подвижное, выразительное лицо его.
IV
Кто бывал в усадьбе Ивана Сергеевича, тот, конечно, не мог не заметить в его столовой около десятка портретов старого письма, в старых позолоченных и мухами засиженных рамах. От них веяло матушкой-стариной -- временами Екатерины и Павла. Несомненно, все они, эти портреты, участвовали в творчестве Ивана Сергеевича -- с детства глаза их следили за ним, и в зрелые годы, как образы, промелькнули в его повестях и рассказах. Все эти портреты до сих пор живо рисуются в моей памяти, до такой степени все они типичны. Тут был и какой-то сенатор, обшитый галунами и в звездах, осыпанных каменьями. "Невообразимый, патентованный дурак", по мнению Ивана Сергеевича, и глядел он на нас из своей рамы, слегка кривя рот от сдержанного самодовольства и упирая в меня свои карие глазки, ничего не выражавшие, кроме любопытства узнать: какой у меня чин и что я такое? Тут была и та красавица, которую при встрече похвалил за красоту сам граф Орлов-Чесменский; она глядела уже пожилой, набеленной, нарумяненной кокеткой, с напудренными буклями и висела на стене рядом с своим супругом, должно быть, большим меланхоликом, с большими воловьими глазами навыкате.
Тут был и старый скряга -- Лутовинов, и сын его, в котором сразу узнавал я того самого героя, которого Иван Сергеевич вывел в своем рассказе "Три портрета" под именем Василия Ивановича Лучинова. (Несомненно, что художник, который писал с него, был далеко не из числа дюжинных.) "Вообразите молодого человека, лет 30, в зеленом мундире Екатерининских времен, с красными отворотами" (так начал его описывать Тургенев), и я добавлю: -- Вообразите себе сильного брюнета, что в особенности заметно по его гладко выбритому и все-таки иссера-сизому подбородку, бледного, но не болезненно-бледного, а так, как бледнеют от затаенной злобы, скуластого и круглолицего, вообще же очень собой недурного молодого человека, и знайте, что если бы вы и не читали рассказа "Три портрета", вглядевшись в его лицо, вы не могли бы не почувствовать, что к этому молодцеватому барину нельзя относиться иначе, как с некоторым за себя опасением, до такой степени его тонкая улыбка не гармонирует с холодом черных проницательных глаз и с его вопросительно приподнятыми круглыми бровями. Глядя на такое лицо, трудно угадать, что последует за этим взглядом, за этой улыбкой! -- ударит ли он вас тростью, или наилюбезнейшим образом протянет руку. Недалеко от этого портрета, на другой стенке, был портрет бледной и тоже черноглазой девушки -- это был портрет сестры его... Иван Сергеевич в своем рассказе ничего о ней не говорит, а выводит на сцену и отдает на жертву его беспокойной праздности Ольгу -- воспитанницу старых Лучиновых. Вообще, как ни страшен по своей зверской бессовестности герой, выведенный Иваном Сергеевичем, он, как автор, все-таки значительно смягчил черты той необузданности, какою отличался действительно живший прототип его, Лутовинов. Так, раз, приглашенный каким-то купцом на свадьбу, он в ту же ночь через окно насильно увез новобрачную, прежде чем жених, только что с нею повенчанный, вошел к ней в спальню: конечно, он увез ее с помощью своих крепостных и своего камердинера француза Брусие, того самого, о котором Иван Сергеевич упоминает в рассказе "Три портрета", называя его ловким и смышленым малым. Другой рассказ об этом Лутовинове такого свойства, что лучше и не упоминать о нем, до такой степени он безобразен и возмутителен.