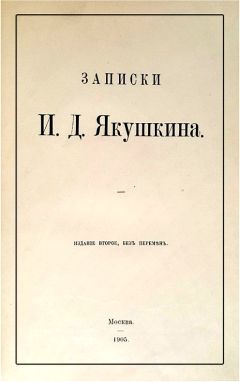Гожаго, сковавъ, сажали на пару лошадей и везли къ пріему въ городъ, въ которомъ находится рекрутское присутствіе. А на парѣ лошадей мужикъ ѣздитъ только въ одномъ еще случаѣ — на свадьбахъ. Это обстоятельство не упущено пѣснею:
Посадили меня, раздобраго молодца,
Въ козырныя сани,
Повезли то меня только разудалаго
Въ городъ — во губернью,
Привозили меня, раздобраго молодца,
Меня ко пріему.
Все, что поражаетъ человѣка при пріемѣ въ рекруты, высказано въ пѣснѣ со всѣми подробностями:
Привели меня, раздобраго молодца,
Меня ко пріему,
Раздѣвали меня, раздобраго молодца
До бѣлаго тѣла,
. . . . . . . . . . . . . .
Ставили меня, сиротинушку,
Въ казенную мѣру.
Какъ и стали они, меня сиротинушку,
Они стричь и брити…
Охъ, ужъ брейте вы мои кудерушки,
Брейте, не жалѣйте!
. . . . . . . . . . . . . .
Привезли то меня, сиротинушку,
Меня ко пріему,
Всѣ пріемщички ли на сиротинушку
Они вздивовались:
Да и гдѣжъ тотъ ли сиротинушка,
Гдѣ жъ онъ уродился?
Забрили лобъ — все еще не солдатъ, все еще онъ можетъ убѣжать, — съ бѣглеца взыску нѣту, пока присягу не принялъ на царскую службу. Народъ думалъ, что рекрутъ принималъ присягу на царскую службу только на 25 лѣтъ, а что послѣ 25 лѣтъ солдатъ воленъ идти на всѣ четыре стороны.
Пока не пригоняли молодаго рекрута къ присягѣ, всякій крестьянинъ помогалъ ему, когда тотъ задумывалъ бѣжать.
Забрили лобъ, пригнали къ присягѣ, и вотъ гонятъ молодыхъ солдатъ, —
А за ними идутъ матушки родныя;
Во слезахъ они пути-дороженьки не видятъ.
Какъ возговорятъ солдаты молодые:
Эхъ, вы матушки, вы матушки родныя,
Не наполнить вамъ синя моря слезами,
Не исходить-то вамъ сырой земли за нами!
А болѣе забубенныя головы прощались со своими разлапушками-сударушками:
Прощай, бабы, прощай дѣвки!
Намъ теперя не до васъ —
Во солдаты везутъ насъ!
Посмотримъ, какъ народъ смотрѣлъ на солдатское житье-бытье. Для этого я опятъ обращаюсь преимущественно къ народнымъ же пѣснямъ. Но при этомъ я долженъ оговориться. Есть два рода солдатскихъ пѣсенъ: однѣ, даже при поверхностномъ взглядѣ въ саномъ дѣлѣ, оказываются поддѣльными подъ народныя пѣсни; другія — чисто народныя.
Эти пѣсни почти не поются народомъ, а ежели и поются, то какъ пѣсни модныя и, разумѣется, болѣе полированнымъ людомъ, напр. фабричными.
Есть другія пѣсни, въ которыхъ говорятъ совершенно другое.
Мужикъ, поступая въ солдаты, начиналъ совершенно иную жизнь; все мѣнялось: образъ жизни, занятія, одежда, прическа. И надо сказать, что тогда многое было, какъ намъ кажется, не только лишнее, но иногда и вредное.
— Ныньче какая служба! говорилъ мнѣ отставной солдатъ еще до 1855 года. — Ныньче что за служба! Нѣтъ, послужили-бы по нашему! Это взять теперь хоть солдатскую одежду…
Въ эдакой то одеждѣ, да еще ученье, въ которыхъ рекрутъ не видалъ цѣли, да и какъ растолковать рекруту пользу учебнаго шага, пунктиковъ?
Пѣсенъ мало, разсказовъ же про прежнія ученія вы можете иного слышать, — лишь бы была у васъ охота. Старики солдаты, — разумѣется, отставные, — поразскажутъ вамъ.
Въ войнамъ до-Петровскаго времени народъ прилегалъ всей душой; простая цѣль тѣхъ войнъ была понятна народу. Надо бы было указать на самую старинную русскую военную пѣсню, на пѣсни про владиміровыхъ богатырей, и въ особенности, на пѣсню о Полку Егоровѣ, но я думаю, что и безъ этого можно обойтись. Мы возьмемъ лучше пѣсни про войны Московскаго царства. Какъ видно по этимъ пѣснямъ сердечное участіе народа въ этихъ войнахъ! По сборнику пѣсенъ И. В. Кирѣевскаго, а полагаю, что самая старинная пѣсня солдатская про куликовскую битву. Но этой пѣсни у меня нѣтъ подъ рукой, а ежели бы и была, я не имѣлъ бы права ее приводить. Не буду также ссылаться на пѣсню, записанную Желѣзновымъ про Рыжечку, хотя эти пѣсни и помогли бы мнѣ. Начнемъ съ пѣсенъ временъ Іоанна Грознаго. Пѣсня про взятіе Казани-города сохранилась въ народѣ во многихъ варіантахъ и но всѣмъ варіантамъ видно, что народъ съ участіемъ смотрѣлъ на эту войну, да и видѣлъ народъ достаточную причину самаго гнѣва Грознаго на Казань-городъ.
Они бѣлому царю всякое грубіянство оказываютъ,
Ухъ и вотъ тебѣ, бѣлый царь, Казань-городъ взятъ!
Оттого-то бѣлый царь разсердился, распылился на Казань-городъ.
Въ другихъ варіантахъ это обстоятельство разсказываетъ проза:
Что татары же по городу похаживали,
Что грозна-царя Ивана Васильевича поддразнивали[1].
Что и тутъ-то нашъ грозенъ царь прикручинился.
Царь Грозный велѣлъ подкопы подкопать подъ казанскія стѣны, велѣлъ пушкарямъ въ тѣ подкопы бочки зелья — пороху накласть и поставить двѣ зажженныя свѣчи, одну въ порохъ, чтобы произвести взрывъ, другую у царя, чтобъ видѣть, какъ скоро произойдетъ взрывъ. Сгорѣла свѣчка, стоявшая передъ царскимъ шатромъ, — а взрыва еще нѣтъ! Царь Грозный распалился на пушкарей:
Приказалъ грозный царь тѣхъ пушкарей казнить.
На счастье случился тутъ молодой пушкарь, что годами еще молодъ былъ, а разумомъ можетъ и постарше всѣхъ.
Этотъ пушкарь сказалъ царю:
Не прикажи казнить, прикажи слово вымолвить!
Въ тиши, въ погребу долго свѣчи теплятся,
На бую на вѣтру скоро свѣчи горятъ.
Не успѣлъ молодой пушкарь слово вымолвить, какъ взорвало всѣ стѣны Казанъ-города.
Этотъ пѣсенный разсказъ совершенно согласенъ съ офиціальнымъ разсказомъ лѣтописей. Стало быть всѣ знали, какъ шла осада, за что понадобилось такое скорое наказаніе, всѣ подробности этого дѣла. Къ самому царю, къ Грозному, да еще въ ту минуту, когда этотъ Грозный царь распалился, разгнѣвался, обратился молодой пушкарь съ совѣтомъ. Въ этой пѣснѣ видно участіе, которое принималъ въ дѣлѣ всякъ, даже молодой пушкарь.
Въ пѣснѣ про осаду Пскова Баторіемъ разсказано все, съ начала до конца; какъ началась война, отчего, какими путями шелъ король-собака на батюшку, на Опсковъ городъ; однимъ словомъ, вся псковская компанія эта разсказана одною пѣснею.
Копилъ то, копилъ король силушку,
Копилъ то онъ, собака, двѣнадцать лѣтъ;
Накопилъ то онъ силушки — смѣта нѣтъ.
Мало, смѣты нѣтъ, сорокъ тысячъ полковъ.
Накопимши онъ силы — на Русь пошелъ;
Онъ на Русь пошелъ, на три города,
На три города, на три стольные:
На первый на городъ на Полоцкій,
На другой то городъ — Велики-Луки,
На третій, на батюшку на Опсковъ градъ.
Онъ и Полоцкій городъ мимоходомъ взялъ,
А Велики-Луки онъ насквозь прошелъ;
Подходитъ онъ подъ батюшку, подъ Опсковъ градъ,
Становился, собака, въ зеленыхъ лугахъ,
Садился онъ, собака, на золотъ стулъ,
Смекалъ то онъ силушку по три дня,
По три дня и по четыре:
Много ли силушка убыла,
А много ли силушки прибыло?
Убыло силушки сорокъ ротъ,
А прибыло силушки сорокъ полковъ.
Тутъ же онъ, собака, возрадуется:
— Охъ, вы гой еси, мои скорые хожатели,
Скорые хожатели и скорые поспѣшатели!
Мечитесь скоро въ зелевые луга,
Въ зеленые луга государевы… [2]
Бери свово коня Бахмута,
Поѣзжай во батюшку во Опсковъ-градъ:
Во городъ въѣзжай, не спрашивай,
Ко двору подъѣзжай, — не докладывай,
Во палата входи — не бей челомъ;
Клади ярлыки на дубовы столы,
За столами сидитъ воевода царевъ
Карамышевъ, Семенъ Константиновичъ.
— Охъ, ти гой еси воевода царевъ,
Карамышевъ, Семенъ Константиновичъ!
Отдай городъ Опсковъ безъ бою,
Безъ бою и безъ драки великія,
Безъ того угодовія смертнаго!
Я на первомъ часу возьму Опскопъ градъ,
На другіемъ часу стану чнстити,
На третьемъ часу стану столъ становнть,
Стану пить, веселиться, прохладиться,
Князей твоихъ бояръ всѣхъ въ половъ поберу,
Донскихъ казаковъ всѣхъ подъ мечъ преклоню,
Я тебя, воевода, казнить буду! —
Возговоритъ воевода царевъ
Карамышевъ, Семенъ Константиновичъ:
— Блуденъ сынъ король съ королевичемъ,
Съ паномъ гетманомъ Ходкевичемъ,
И съ воинскимъ конемъ Вороновичемъ!
Не отдамъ я тебѣ города безъ боя,
Безъ боя и безъ драки великія,
И безъ того уголовія смертнаго!
Какъ съ вечера солдаты причащалися,
Со полуночи ружья чистили.
По бѣлой зорѣ, какъ куры пропѣли,
Не туча съ тучей соходилася,
Не зоря съ зорей сомыкалася,
Соходилася два войска, два великія,
Бѣлаго царя съ королевскимъ.
Тутъ ѣздитъ разъѣзжаетъ удалой добрый молодецъ,
Еще то ли воевода царевъ,
Карамышевъ, Семенъ Константиновичъ:
Кому у насъ на бою, братцы, божья помощь?
Помогъ богъ воеводѣ Московскому,
Карамышеву, Семену Константиновичу,
Добилъ силу королевскую:
Всѣхъ латничковъ, сиповщичковъ,
Кольчухничковъ, барабанщичковъ;
Насилу король самтретей убѣжалъ.
Бѣгучи онъ, собака, заклинается:
— Не дай, боже, мнѣ въ Руси бывать!
Ни дѣтямъ моихъ и не внучатамъ!
И ни внучатамъ, и ни правнучатахъ!
Про пѣсни временъ самозванщины, про Скопина-Шуйскаго, должно тоже сказать: и въ этихъ пѣсняхъ видно народное участіе во всѣхъ дѣлахъ; они всякому были извѣстны, всякъ стоялъ за ту сторону, гдѣ омъ видѣлъ, по своему, сторону правую.