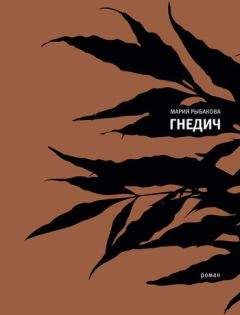Птицы не сходят с ума,
только люди, которые
превращаются в птиц,
Филомела без языка и
Прокна, убившая сына,
стали ласточкой и соловьем.
Во время одного посещения
Гнедич наклонился над другом,
и тот шепнул ему по секрету,
что, мол, сойти с ума – это и значит:
превратиться в птицу,
и кивнул на окно: слышишь их голоса
в кроне дерева? Они говорят по-гречески.
Гнедич был вынужден согласиться,
чтоб не тревожить больного.
Потом он шел домой.
Солнце уже заходило.
Боги, должно быть, пировали весь день.
Аполлон играл им на лире,
музы пели в два голоса.
Затем они разошлись по чертогам,
что им построил Гефест,
и покоились радостным сном
бессмертных.
Он плохо спал
в тишине амброзической ночи,
просыпался и думал:
почему бы ей не присниться?
Были только бесконечные коридоры,
закоулки, люстры, кулуары,
гримерные, пыльный занавес, декорации,
пустой зал и откуда-то с улицы – шум рукоплесканий.
И во сне он понимал, что должно быть наоборот,
что все поменялось местами, но не задерживался,
а продолжал искать ее между бархатных кресел,
искусственных гор, домов и деревьев,
молчащих скрипок и контрабасов,
и даже забывал, кого, собственно, он ищет,
и только проснувшись, в отчаянии от того,
что не нашел,
вспоминал: Семенову. Он, страшный как черт,
был влюблен
в примадонну и давал ей уроки сценической речи.
Он зажигает свечу,
чтобы не думать о невозможном
и не ввести себя в грех,
в котором на исповеди было бы стыдно признаться.
Пойти, что ли, съесть чего-нибудь,
кусок хлеба с салом,
выпить холодного чая,
еще поработать над переводом,
пока город так нем
в тишине амброзической ночи.
Приехав сюда в первый раз,
он писал сестре: что за ужасный город
по ночам! Молчание, как в могиле.
То ли у нас в Полтаве: ночь полнозвучна,
петухи орут, собаки воют,
даже рогатый скот просыпается и мычит,
а если даже вдруг все умолкнут,
сверчки начинают трещать что есть мочи, —
в общем: ночь как ночь, а здесь...
Потом привык, ему нравилось просыпаться
раньше всех и думать о спящих
в этом безмолвном городе —
о финнах и немцах с их непонятными снами,
о дворце, где дремлет Император,
о дворниках, которые и во сне, наверно, метут,
а он один бодрствует.
На конторке всегда есть кипа чистых листков.
Так чисто было его лицо до болезни,
но он покрывает их письменами,
как болезнь покрыла его лицо страшными знаками.
Чернила марают листок за листком,
ибо уж очень длинна «Илиада»,
и делу не видно конца.
Но если он остановится, что останется от него?
Ни веры, ни любви, ни надежды.
Но он выучил правила древнегреческой грамматики,
падежи, времена, окончания,
придыхания. («О, совсем не то, что вы думаете!» —
говорит он дамам, если они желают
послушать в салоне
о его работе. Одна ему:
«У меня бы никогда терпения не хватило!»
Он ловит себя на мысли, что
когда ее красота пройдет,
терпение станет ее уделом, но тут же
заставляет себя процитировать
особо эффектный стих,
ибо в детстве доктор сказал ему:
«Всегда восхищайся другими,
чтобы забыть о себе: калеки злорадны», —
и отрок поклялся: «Я буду любить,
пускай безответно, но – всегда!
как любят другие».
Наивный, он полагал,
что жизнь мужчины проходит в любви и в войне,
а вовсе не в том, чтобы переписывать циркуляры
и соблюдать правила хорошего тона.)
Он рассказывал Батюшкову про приметы:
дракон – дафойнос – то есть
и пестрый, и кровавый,
выползает из-под корней и пожирает птенцов,
одного за другим, проглатывает их мать,
а затем превращается в камень...
Батюшков на это: «Как можно было такую гадость
принять за знак от богов? Бррр... Представь себе:
все эти генералы стоят и смотрят,
как змея ест птицу. Меня бы вырвало,
а я, сам знаешь, не из чувствительных,
прошел три войны». (Милый друг,
он все храбрился:
мол, вояка, мол, мы еще поборемся,
а потом мысль не выдержала
и раскололась на тысячи кусков,
где глаголы были сами по себе,
а существительные отдельно,
и в том, что он помнил крыша от дома
была с ногами гусара,
а дверь – рядом со ртом маленькой девочки.)
Гнедич улыбнулся и не стал рассказывать,
как в деревне Миколка водил его в лес
искать лягушек,
когда они, как он говорил, брачуются.
Миколка бросал их в муравейник
и через несколько дней находил
обглоданные косточки.
Он показывал их Гнедичу
говоря: видишь вот этот крючок?
Я его прицеплю девке на юбку,
и девка меня полюбит.
Это всегда помогает? – спрашивал Гнедич.
Всегда, – отвечал Миколка – и верно,
все девки его любили. А Гнедич так не смог
бросить любящую лягушку
на съедение муравьям,
потому что лягушки
были склизкие и в бородавках.
Конечно, ему хотелось,
чтобы девки его любили,
но от них пахло потом, и они гоготали,
показывая черные зубы,
и Гнедич решил, что он подождет
до Москвы или до Петербурга,
где будут ходить богини
в красивых платьях: вот они-то его полюбят,
а потом оказалось, что и они боятся
на него посмотреть,
и Гнедич решил подождать еще немного —
до смерти.
Батюшков говорил: только мы за ними
спускаемся в ад.
А Лаодамия? Разве она не пошла
за тенью Протесилая
в огонь (так ее обманули боги)? —
возражал Гнедич;
однако он никогда не любил
латинской поэзии
с ее чувствительностью и призывами,
что б ни случилось, пить вино
и бросаться в объятия шалой матроны
с островным псевдонимом.
Он объяснял Батюшкову,
что предпочитает Гомера,
идущих на смерть героев
и сыновей богов,
идущих на смерть.
Представь себе, что твои кони
знают, когда ты погибнешь,
и плачут, а сами бессмертны,
и боги плачут,
потому что у них умирают дети,
а они ничего поделать не в силах,
потому что судьба тверже их воли.
Батюшков засмеялся и отвернулся,
поправил манжеты, приложил палец к губам,
как будто об этих вещах говорить не нужно
и не всем положено о них знать, —
так ты будешь переводить Гомера?
Да, отвечает Гнедич и чуть наклоняет голову.
Это же долго, целая жизнь!
Да, отвечает Гнедич. В окно бьет дождь,
жизнь кажется такой маленькой-маленькой,
что жалко ее отдавать – но он решился:
Гомеру...
(Если бы мог,
он бросил бы ее к ногам женщины,
пусть даже падшей; ибо он не ищет бессмертья —
а только: отдать себя, всего, каждую каплю
своей ненужной жизни, каждую пору
лица, обезображенного болезнью,
каждый мускул еще молодого тела, —
отдать, потому что он помнит:
зерно, упав в землю, должно умереть,
иначе будет бесплодно;
это единственное, что он понял —
всего себя, без остатка, отдать
почве, которая только
согласится принять его.)
Когда не мог заснуть, он вспоминал,
как учил греческий алфавит —
буквы, похожие на петельки и крючочки.
(Батюшков говорил, что читал у одного шведа:
ангелы на том свете пишут крючочками.
Гнедич рассмеялся: это же греческий!
Наверно, ты прав, согласился друг,
но я всегда думал, что на небесах
говорят по-латыни —
на языке бессмертья и власти,
а не на греческом, шелестящем,
как сухие листья, – их обрывает ветер
и несет в закоулки, развеивает,
как наши смертные души.
Батюшков писал: давайте веселиться.
На самом деле ему хотелось бессмертья,
хотелось вечности; поговаривали,
что от этого и заболел.)
У греческих букв почти нет углов,
они переплетаются, и выводить их
одно удовольствие:
Альфа, бета и гамма, дельта, ипсилон, зита, ита,
фита и йота, каппа, лямбда,
мю, ню, кси, омикрон, пи,
ро, сигма, тау и юпсилон,
фи, как восклицанье дамы,
хи, как смешок чиновника,
пси, страннейшая буква,
омега, последняя, в которой все, —
но он так и не может заснуть,
перебирает в уме героинь «Илиады»:
Агадама, Агава (кажется, нереида),
Аглая, Айгиалея,
Аита – нет, Аита должна быть лошадь,
Алкиона – нет, это, кажется, чайка,
Алфея и Амафея,
Амфинома и Андромаха,
Астиоха, Астиохея,
Брисеида, Галатея, Главка,
Динамена, Дорида, Дота,
Ианейра, Ифианасса,
Ифида – у них у всех
лицо Семеновой.
Он знает, что если позволит
мечте об этом теле окутать себя в постели,
то заснет мгновенно,
как младенец под колыбельную матери, —
но он не хочет усыплять себя ложью
и продолжает считать,
теперь уже тех, кого ему довелось увидеть.
Вот почему-то на родине в Малороссии
людей было много даже в деревне,