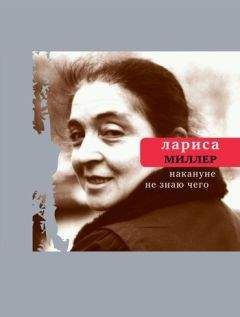«Когда вечерело…»
Когда вечерело, когда вечерело,
И лампочка под абажуром горела,
И ручка по белой бумаге бежала,
И тень на листе моём белом лежала,
Пришла тишина, тишина наступила
И разом квартиру мою затопила,
И ручка бежать по листу перестала,
И я поняла, что смертельно устала.
А посреди земного ада
Звучала звонкая рулада,
Пылали маки в том аду,
Цвела кувшинка на пруду.
Кувшинка на пруду белела,
А сердце всё равно болело,
Господь о помощи просил,
И жить едва хватало сил.
«Августовский день нарядный…»
Августовский день нарядный,
Ненаглядный, ненаглядный,
Ты помедленней теки.
Наша жизнь есть факт отрадный.
Луч касается щеки
Аккуратно, осторожно.
Нынче жить совсем не сложно.
Сверху синь, внизу трава.
Всё говорено, и можно
Больше не искать слова.
«Читай в незримом букваре…»
Читай в незримом букваре,
Как облака плывут горе,
Плывут небесные овечки, —
Шепчи простейшие словечки.
Читай, губами шевеля,
Но только медленно: «Земля,
Осенней паутины нитка...»
Уже которая попытка
Всю эту азбуку прочесть.
Читай сначала. Время есть
Пока. А если даже нету,
Читай, присев поближе к свету.
«Всё пройдёт, пройдёт, ей-богу…»
Всё пройдёт, пройдёт, ей-богу,
Потихоньку, понемногу.
Я пройду, и ты, и он —
Всё пройдёт: и явь и сон.
И не надо трепыхаться,
От обиды задыхаться.
Жизнь, конечно же, не мёд,
Но она пройдёт, пройдёт.
Эта горестная нота...
Время краткого полёта
Ниоткуда никуда.
Сад осенний шепчет что-то,
Бормочу в ответ: «О, да...»,
Хоть его невнятны речи.
Поживём. Ещё не вечер.
Полетаем, поживём.
Ярко вспыхивают свечи...
Слава Богу, мы вдвоём.
Слава Богу, время длится,
Нам один и тот же снится
Золотой летучий сон...
В старом доме сладко спится
Под шуршанье жёлтых крон.
Я уже плохой ходок.
Утки, озеро, ледок,
Небосвод пустой и серый,
Старый лаз забит фанерой.
И не деться никуда.
Осень, стылая вода.
Шагом медленным, усталым
Прохожу по листьям палым.
«Поведай, что же ты открыл…»
Поведай, что же ты открыл
Под вечный шум небесных крыл.
Открыл, что жизнь не мёд, не млеко
И золотого нету века.
Открыл, что с каждым днём больней
И жить, и расставаться с ней —
С неповторимой жизнью этой,
И с бедной сумрачной планетой.
«А я, как глухая тетеря…»
А я, как глухая тетеря,
Токую: «Потеря, потеря», —
Тоскуя с зари до заката,
Токую: «Утрата, утрата...»
А жизнь мне другое пророчит
И щёку легонько щекочет
Лучом, что и нежен, и ярок,
И шепчет: «Подарок, подарок».
«Ничего с тобой не будет…»
Ничего с тобой не будет:
Помелькаешь – пропадёшь.
Этот мир тебя забудет,
А другого не найдёшь.
Впрочем, всё это догадки.
Может, будет всё не так...
Гаснет день январский краткий,
Дальше темень, дальше мрак.
Дальше, дальше, что там дальше?
Говорят, что тишина...
Белый снег идёт тишайший,
Снега белая стена.
Тишиной всё завершится...
Длится хлопьев снежный бал...
Так легко всего лишиться,
Чем едва ли обладал.
Жизнь меня морочила, жизнь меня манила,
Окунала перышко в синие чернила
И писала набело, вовсе без запинки,
Все свои послания строго по старинке,
Чтобы я читала их, шевеля губами,
Как когда-то азбуку я читала маме...
Неостановимое перышко скрипело,
И синица вешняя за окошком пела.
«А день, ничем не омрачённый…»
А день, ничем не омрачённый,
Обласканный и золочёный, —
Он жив и светится пока.
Дорога, облако, река.
И все в нём могут разместиться:
Здесь мы с тобой, а выше птица,
А ниже множество теней —
Та покороче, та длинней.
«И всё, что за день жизнь накопит…»
И всё, что за день жизнь накопит,
Она в ночи глубокой топит,
В ночи глубокой, как в пруду.
И что же завтра я найду?
Я день найду лучистый, новый,
Просторный, ко всему готовый.
Книга вторая
А мир творится и творится...
2006
«Дитя лежит в своей коляске…»
Дитя лежит в своей коляске.
Ему не вырасти без ласки,
Без млечной тоненькой струи.
О Господи, дела твои.
Тугое новенькое тельце
Младенца, странника, пришельца,
Который смотрит в облака,
На землю не ступив пока.
Придумали себе рубеж.
А хорошо б остаться меж
Минувшим годом и грядущим
И жить во времени текущем,
Где этот свет и этот мрак
Не обозначены никак,
Где нет ни имени, ни даты.
И если крикнут мне: «Куда ты?», —
Скажу: «Спешу я к той заре,
Которой нет в календаре».
«Нельзя так мчаться и мелькать…»
Нельзя так мчаться и мелькать.
Зачем вы так летали,
Года мои? Хочу вникать
В подробности, в детали.
Хочу, чтоб миг, крылом шурша,
Присел на подоконник.
Хочу всё утро, не спеша,
Читать старинный сонник.
Хочу, чтоб белый, белый день
Стоял – не шелохнулся,
И чтобы всяк, ушедший в тень,
Когда-нибудь вернулся.
«Франциск с овечкой говорит…»
Франциск с овечкой говорит,
Молитву тихую творит.
Он дышит воздухом прозрачным
И говорит с цветком невзрачным,
Шепча: «Господь тебя храни».
Текут его земные дни,
Молитва длится, длится, длится,
И горлинка на грудь садится.
«А мир творится и творится…»
А мир творится и творится,
И день, готовый испариться,
Добавил ветра и огня.
И вот уж залетела птица
В пределы будущего дня.
И не кончается творенье,
Как не кончается паренье
Полётом одержимых птиц,
И что ни утро – озаренье
Подъятых к небу светлых лиц.
«”День добрый”, – шепчу я…»
«День добрый, – шепчу я. – День добрый», – шепчу
И жмусь к твоему, мой любимый, плечу.
День добрый. Он милостив. Он пощадит.
Он столько счастливых мгновений родит.
Он нас приласкает весенним лучом,
И мы не попросим его ни о чём.
«А художник сказал, что тоска остаётся…»
А художник сказал, что тоска остаётся.
От неё не спастись. Без неё не поётся.
Без неё на холсте осыпаются краски.
Вот подсолнух пылает в неистовой пляске.
Кисть танцует, дика. Живописец тоскует
И от острой тоски задохнуться рискует.
«На облако белое, как молоко…»
На облако белое, как молоко,
Прищурясь взгляну и вздохну глубоко.
Так пахнет апрелем, и льдистой водой,
И призрачным счастьем, и близкой бедой.
Живу, заклиная: «О, если бы мог,
О, если бы мог Ты», – и в горле комок.
«До того как в землю ляжем…»
До того как в землю ляжем,
Полюбуемся пейзажем.
Ранний снег лежит на ветке,
На которой листья редки.
Ствол поваленный чернеет.
День кончается. Темнеет.
Только ягоды рябины
Пламенеют, как рубины.
«Живу, тоску превозмогая…»
Живу, тоску превозмогая...
Качнулась веточка нагая
На старом дереве сухом...
Тоска считается грехом.
Я во грехе уже полвека
Живу, и облачное млеко
Над головой моей течёт,
И золотой июньский мёд
Стекает по губам и мимо.
И всё-таки я здесь любима,
И давний грех мой мне прощён,
И день лучами позлащен.
«Что делать с этим белым днём…»
Что делать с этим белым днём,
С его лучами и тенями,
С его небесными краями,
Как позаботиться о нём,
Чтоб не расстроился, не сник,
Уйдя ни с чем во тьму и морок,
Чтоб знал, что и любим, и дорог
Его меняющийся лик?
С чем проснулась?
С печалью, с печалью.
День манил ослепительной далью,
Той, которой для смертного нет,
И слепил этот божеский свет,
Свет несбыточный, свет небывалый,
Переменчивый, розовый, алый,
Золотые на синем мазки —
Цвет тревоги моей и тоски.
«А соловей, влетевший в сад…»
А соловей, влетевший в сад,
Поёт так дивно.
Гляди вперёд. Глядеть назад
Бесперспективно.
Белым-бело. И темноты
Почти что нету.
Придёт зима, и будешь ты
Скучать по лету.
Ну а сегодня рай земной,
И завтра тоже.
Сирень стоит живой стеной.
Её тревожа,
Несильный дождик шелестит,
Листвой играя.
И никогда не улетит
Душа из рая.