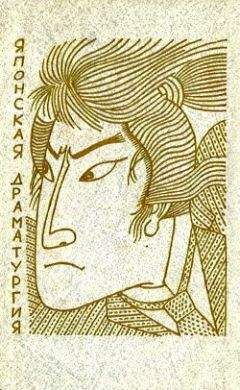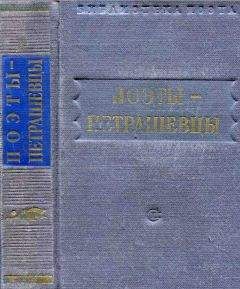ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ
I. «Возвращусь в ветвей безбрежья...»
Возвращусь в ветвей безбрежья,
в ненаглядные края,
где лежит Левобережье,
жизнь моя и смерть моя.
Вспомню всё, что было прежде,
всё, что в дымке бытия,
всё, в чем спит Левобережье,
жизнь моя и смерть моя!
Возвращусь туда, где трефы
опостылевших ветвей,
где с платформами Мерефы
слит усталый соловей.
Возвращусь туда, где снова
можно жить без полумер,
где на станции Основа –
Квитка, харьковский Гомер!
Был монахом этот Квитка,
а потом танцором стал,
а потом – такая пытка! –
не залез на пьедестал.
Ах, услуга! Ох, медвежья!
Эх, блеснула колея!
Чернозем. Левобережье.
Нет, не смерть, а жизнь моя!
II. «Левобережье. Нет другого...»
Левобережье. Нет другого.
Теряю счет годам.
Левобережье. Этот говор
я рельсам передам.
Левобережье. Мимо, мимо.
Дорога далека.
И только в сердце – горечь дыма
да исповедь гудка.
Левобережье. Зорко, зорко
впишись в былые дни —
и, ежели мешает шторка,
смахни иль отверни!
Воспой иные побережья,
но всё, но всё равно:
глядит мое Левобережье
в раскрытое окно.
В листвы взъерошенной мятеж я
уткнусь в чужом окне,
и всё ж мое Левобережье
всё будет сниться мне:
тот край, где годы – как минуты,
где быль – как синь-туман,
тот край, где суржик пресловутый
мил слуху поселян!
Прозвучи, моя шальная лира,
доблестью, и лаской, и тоской!
Я рожден на улице Шекспира,
в центре Украины Слободской.
Не хочу плутать в неточных датах,
но столетья поступь узнаю:
верно, на заре годов двадцатых
так назвали улицу мою.
Ах, Шекспир! Задира и проказник!
Можно ли забыть, что искони
творчество – неумолимый праздник,
что и мы ему слегка сродни!
Что слова приходят к пантомимам,
оглашая пестрый балаган:
в зеркальце, как смерть неумолимом,
облик свой увидел Калибан.
В ямбах осязаемых и жестких
человек творит свой правый суд.
Гамлет умирает на подмостках,
капитаны Гамлета несут.
Вот бы нам гореть такою страстью
до черты последней, до конца;
если б нам с такой безумной властью
человечьи потрясать сердца!
В нас твои отрады и печали,
шар земной, летящий в тучах тьмы!
Были б мы пустыми рифмачами,
если б о тебе забыли мы!
Если б наше сердце не искало,
без дорог, на ощупь, наизусть,
мужества высокого накала,
слова, побеждающего грусть!
Пышная словесная порфира,
зашурши над каждою строкой!
Я рожден на улице Шекспира,
в центре Украины Слободской.
Шло время
в умерщвленьях и зачатьях,
в соцветьях радуг,
в скрипе колеса;
мерцали купола,
и на Крещатик
седые
опускались небеса.
Летела слава
по горам и долам,
столетия
стирали ржавый грим,
и золотые звезды
над Подолом
светили мне
и прадедам моим.
«Предки, предки, и вы отошли в мир иной…»
Предки, предки, и вы отошли в мир иной,
привиденьями зыбкими стали!
Вы носили жилетки с атласной спиной
и на пряжках из кованой стали.
И усов ваших фиксатуар-бриолин
был тождественен вечному лоску;
отдаленней теперь, чем кольчуги былин,
ваши штучные брюки в полоску.
Трепыхался футбол и мигало кино,
предвещая истории славу;
в Черном море мотались, с судьбой заодно,
то ли «Гебен», а то ли «Бреслау».
А потом вы на дачах играли в крокет,
и носили толстовки с кокеткой,
и, откушав в столовке свой постный обед,
отличались наивностью редкой.
Годы шли. И уже созидалось метро.
Дождь ложился на вмятины фетра.
Вы тогда уже были, простите, «ретро »,
или, может быть, правильней «ретро»?!
Отошла вашей жизни большая тщета,
только дышат еще и доселе
увеличенных ваших портретов уста
и карманных часов карусели.
Я, потомок ваш бледный,
прославить хочу вас в своем поэтическом раже, –
ведь эпоха вам всё же была по плену,
как титанам в седом Эрмитаже.
Я прославить хочу ваш лаун-теннис в жару
и тяжелые ваши ракетки,
потому что всё ж честно вели вы игру,
вы, мои незабвенные предки!
Что вам НЭП, шмендефер и рулетка с пти-шво!
Были вы в адамантовом стиле,
и врагам не прощали вы впрямь ничего,
но и вам ничего не простили.
Над селеньями людскими,
деловит и нелюдим,
сродный милой пантомиме,
домовитый вьется дым.
В нем твоих очей бездонность,
всем соблазнам вопреки,
и святая отрешенность
хореической строки.
И окутан в дымку света,
вдалеке от всех морей –
позабытый кем-то где-то
город юности моей.
Мне знаком здесь каждый угол,
и подъем, и поворот,
и парад бетонных пугал
возле парковых ворот,
и отрада человека —
снежных хлопьев белизна,
и семнадцатого века
монастырская стена.
Как инкогнито и некто,
все бы в сердце уберечь:
даже грубость диалекта,
даже грусть разлук и встреч.
Уплывает пантомима
в снеговую пелену.
«Слаще нет родного дыма», —
говорили в старину.
Я от сердца отрываю
этот каменный фасад,
эти синие трамваи
и заиндевелый сад,
и покрытый ранней славой,
в голубой одетый дым,
милый месяц моложавый
над пристанищем моим.
«Шаланды у прибрежных сел…»
Шаланды у прибрежных сел
покачивает ветер резкий,
и постаревший режиссер
бредет по улице одесской.
Он, лысый, скучный человек,
шагает — к смерти ли? ко сну ли?
…Летел бумажный жалкий снег,
эскадры странные тонули.
Фанера, доски и картон,
шеренга дев неграциозных;
глотнуть бы пересохшим ртом
весь этот непродажный воздух!
И умирает старый шут
во всем ветрам открытом зале.
И неба синий парашют
висит над улицей Лассаля.
Бывает, барахлит забвенья
мгла подобно полевому телефону…
Таинственная женщина плыла
по расписному синему плафону.
А пламя подымало языки
и в сновиденья странные тянуло,
где отзвуки и нисхожденья гула,
где комнаты как в сказке высоки.
Пожалуй, что тогда мне было десять,
во мне еще не накопилась злость,
не в пушкинской, а в ильфовской Одессе
мне проживать в ту осень довелось.
Там было даже и кафе Фанкони,
нарпитовское стойбище мужей,
и небоскребы в восемь этажей,
но речь пойдет о расписном плафоне.
Летела – в складках, в драпировках вся,
очами похотливыми кося,
но сверх того не ведая корысти, –
мадам, должно быть, итальянской кисти.
Бинокль к глазам прильнет, как соль ко рту,
и сразу в приближеньи многократном –
бетонный мол, сродни рассветным пятнам,
и трубы разноцветные в порту.
Так сочетался этот Мир-навырост
с грядущим… Впрочем, это ничего!
Но более, но более всего
мне памятна тех дней морская сырость.
Она была повсюду и всегда,
цвела в подъездах животворной тенью,
сродни испепеленью и томленью
и некой сладковатостью горда.
С тех пор прошло немало лет и льдов,
но сырость эта ждет в мечтах опальных,
на лестницах приморских городов
и в тусклом свете комнат умывальных.
Но непрерывен времени поход,
он движется по месяцам угаслым…
Нагретым маслом пахнет теплоход
и вся судьба нагретым пахнет маслом.
Машинным маслом. Что за толчея
нам подтверждает непреложность мига!
Морская сырость – вотчина твоя,
Одесса, Феодосия и Рига.
Чем пахнет на заре Восточный Крым?
Чем пахнет на заре Бассейн Донецкий?
Чем пахнет время? Спячкою мертвецкой
иль пробужденьем? Мы – поговорим…
Был старый дом. О время, не тревожь
осколков воронцовского уюта!
Еще мне снится душная каюта,
Где с морем обручен Одесский Дож!
Во мне еще накапливалась злость
и ожиданий тщетное величье, –
не смог Всего Грядущего Обличье
провидеть я. Но кое-что сбылось.