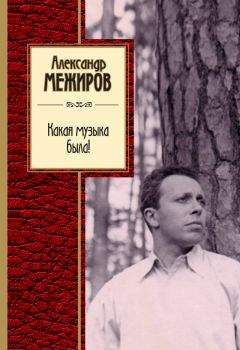Первый поэт, которого я переводил, был Симон Чиковани. Это был очень большой поэт.
Но над всей грузинской поэзией возвышался, так же как и возвышается сейчас, Галактион Табидзе. Он возвышался, как храм духа. Как храм действующий, но стоящий где-то высоко-высоко в горах. Я слышал только гул его колоколов. А дальше паперти не проник. Это поэт очень труднопереводимый, хотя пробовали переводить его все. Это поэт грандиозный.
Я глубоко убежден, что переводить стихи имеет смысл только с полной самоотдачей. Иначе это никакого смысла не имеет, потому что, предавая строку переводимого стихотворения, поэт неизбежно предает свою собственную поэзию.
Какие Вы больше любите писать стихи, серьезные, лирические или юмористические?
Очень трудно эти три слова разорвать. Серьезные? Несерьезных стихов не бывает. Лирические? Нелирических не бывает. Юмористические? Я очень это ценю в искусстве, юмор. Высоко он меня восхищает. Но, как вы слышали, природа не одарила меня этим, на мой взгляд, ценнейшим даром.
Как Вы относитесь к песне? Есть ли у Вас песни?
Это моя любовь. Я очень люблю песни. Но, правда, хорошие.
У меня есть песни, и даже немало. Разные композиторы писали… только, по-моему, это ужасные песни… Ни одной, ни единой, которая бы мне нравилась, нет.
Очень я завидую этому дару, и очень любил я Алексея Фатьянова. Вот у него был действительно поразительный песенный дар, я думаю, что недооцененный и непонятый. К его поэзии относятся недостаточно серьезно. Он был поэт по милости Бога. Но у него был особый дар, именно песенный. У него совершенно свободный от слов стих. Вот такому дару я завидую очень.
Александр Петрович, когда Вы начали писать стихи, где работаете?
Всю жизнь я старался служить. И это неспроста. Опять-таки для того, чтобы защитить стихи, чтобы не превратить их в орудие борьбы за существованье. Служил я в самых разных местах, и в газетах метранпажем, верстальщиком и ответственным секретарем, и литсотрудником, и заведующим отдела поэзии в «Знамени». А сейчас я работаю на Высших литературных курсах, веду там семинар поэзии. Ну, как вы понимаете, эта работа не слишком преподавательская, это скорей беседы с писателями[2]. Но это отнимает и много времени, и много сил. Иногда оказывается, что это не напрасно.
Александр Петрович, можно ли научиться писать стихи?
Это очень легко. Но поэтом стать… Я знал из новых – Смелякова. Затрудняюсь назвать второго. А мы стихотворцы все, это совсем иное. Поэт – это редчайшее явление.
Если бы Вам сейчас было 20 лет, были бы Вы поэтом и о чем бы Вы писали?
Да, это вопрос нешуточный. Я-то убежден, что был бы, а как было бы по-настоящему, это ведь неизвестно. В чем я убежден – что я писал бы стихи. А поэтом… это слово для меня слишком дорого.
Как Вы понимаете, что такое любовь?
Невыразимо это. Невыразимо. Не хочу… Тут сразу вспоминаешь Тютчева: «Мысль изреченная – есть ложь». Начну высказывать вам мысли по поводу того, как я понимаю любовь, и что-нибудь в слове повредится.
Насколько Вам помогает общение с природой в Вашей поэзии?
Может быть, если что-то укрепляло во мне силы заниматься этим, не бросать сочинение стихов и поэм, то, может быть, я верил, что я могу их сочинять из-за любви к лесу, к реке, к дереву. Может быть, это самое главное, что убеждало меня, что я хоть чем-то связан с этим.
Почему так много у Вас стихов о войне? А где о любви?
Ну, я говорил о том, что я не различаю, не выделяю военную поэзию во что-то, не связывая с жизнью, с любовью, с ненавистью, с восторгом, с горем. Жизнь людей моего возраста неразрывно и неизлечимо, кровно связана с войной.
Спрашивают: почему вы все столь рьяно воспеваете армию? Армия… что армия? Муштра… А ведь армия и наша молодость – совпали. И война-то действительно была Великая и действительно Отечественная. Вот, отойдя на какое-то расстояние, это можно понять и почувствовать лучше.
Конечно, груз прожитых лет – он существующая реальность возраста. Но, знаете, по-моему, у Аристотеля сказано: «Старость – это награда». Старость не угнетает меня.
№ 6 2013 г.
Мальчик жил на окраине города Колпино.
Фантазер и мечтатель.
Его называли лгунишкой.
Много самых веселых и грустных историй
накоплено
Было им
за рассказом случайным,
за книжкой.
По ночам ему снилось – дорога гремит
и пылится
И за конницей гонится рыжее пламя во ржи.
А наутро выдумывал он небылицы —
Просто так.
И его обвиняли во лжи.
Презирал этот мальчик солдатиков оловянных
И другие веселые игры в войну,
Но окопом казались ему придорожные
котлованы, —
А такая фантазия ставилась тоже в вину.
Мальчик рос и мужал
на тревожной, недоброй планете,
И когда в сорок первом году, зимой,
Был убит он,
в его офицерском планшете
Я нашел небольшое письмо домой.
Над оврагом летели холодные белые тучи
Вдоль последнего смертного рубежа.
Предо мной умирал фантазер невезучий,
На шинель
кучерявую голову положа.
А в письме были те же мальчишечьи небылицы.
Только я улыбнуться не мог…
Угол серой, исписанной плотно страницы
Кровью намок.
…За спиной на ветру полыхающий Колпино,
Горизонт в невеселом косом дыму.
Здесь он жил.
Много разных историй накоплено
Было им. Я поверил ему.
«Какие-то запахи детства стоят…»
Какие-то запахи детства стоят
И не выдыхаются.
Медленный яд
уклада
уюта,
устоя.
Я знаю – все это пустое,
Все это пропало,
распалось
навзрыд,
А запах не выдохся, запах стоит.
Пули, которые посланы мной,
не возвращаются из полета,
Очереди пулемета
режут под корень траву.
Я сплю,
положив под голову
Синявинские болота,
А ноги мои упираются
в Ладогу и в Неву.
Я подымаю веки,
лежу усталый и заспанный,
Слежу за костром неярким,
ловлю исчезающий зной.
И когда я
поворачиваюсь
с правого бока на спину,
Синявинские болота
хлюпают подо мной.
А когда я встаю
и делаю шаг в атаку,
Ветер боя летит
и свистит у меня в ушах,
И пятится фронт,
и катится гром к Рейхстагу,
Когда я делаю
свой
второй
шаг.
И белый флаг
вывешивают
вражеские гарнизоны.
Складывают оружье,
в сторону отходя,
И на мое плечо,
на погон полевой зеленый,
Падают первые капли,
майские капли дождя.
А я все дальше иду,
минуя снарядов разрывы,
Перешагиваю моря
и форсирую реки вброд.
Я на привале в Пильзене
пену сдуваю с пива
И пепел с цигарки стряхиваю
у Бранденбургских ворот.
А весна между тем крепчает,
и хрипнут походные рации,
И, по фронтовым дорогам
денно и нощно пыля,
Я требую у противника
безоговорочной
капитуляции,
Чтобы его знамена
бросить к ногам Кремля.
Но, засыпая в полночь,
я вдруг вспоминаю что-то.
Смежив тяжелые веки,
вижу, как наяву:
Я сплю,
положив под голову
Синявинские болота,
А ноги мои упираются
в Ладогу и в Неву.