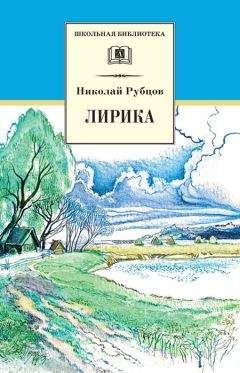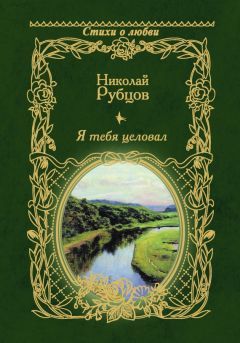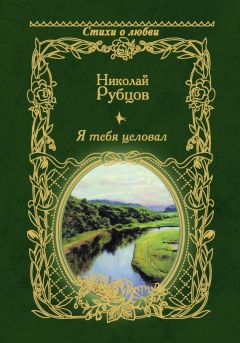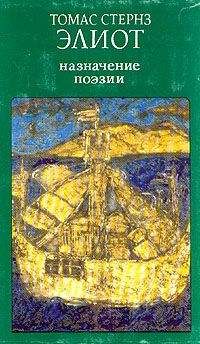Это уже нечто молитвенное – «Свете тихий»… Можно, конечно, указать на чудную простоту и гармонию стихотворения, но суть в ином. Вот при такой тихости, таком спокойствии, при ритмических повторениях рождается чувство, что вот сейчас сюда ворвется нечто небывалое и огромное. То множество смыслов, которые в слове и за словом, как в колыбельном напеве. В стихах раскрывается то, что русский мыслитель назвал «внутренней формой слова», что несет слово сквозь века. Конечно и безусловно, при создании подобных вещей необходимы талант, мастерство, своя, по слову Есенина, «словесная походка». Но прежде всего нужно волшебное устроение души автора, которое преобразует и одухотворяет то, с чем она соприкоснулась в каждодневном жизненном и житейском опыте. А такое душевно-духовное устроение связано с тем, как складывалась жизнь и судьба поэта, с ранних лет и до зрелых, каким был мир, в котором он жил (страна, история, вера, нравы, взаимоотношения с другими людьми, природа, народное искусство). Здесь разгадка очень многого. И не только в судьбе художника, но и вообще в человеческой судьбе. Как гласит поговорка: «Каков в колыбельку, таков и в земельку».
Но порой красота мира и безмерность человека вступают в мучительные взаимоотношения. В гармонично совершенных вещах Рубцова всегда присутствует «трагический надрыв» (по Достоевскому), напряжение, с которым преодолевается «сиротство» – сиротство во всех смыслах, от материально-социального до глубинного. Загнанность человека и спасительность для мытарствующей души песни. Где-то здесь обретается и причина того, почему Рубцов среди стихов различного достоинства оставил в русской поэзии несколько ослепительных шедевров, которые мы вправе, даже внеэстетически, называть классическими – имея в виду все, с чем связано это определение в великой русской литературе. Это и приведенные здесь «В горнице» и «Тихая моя родина», «Русский огонек» и «Родная деревня», «Памяти матери» и «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…», «Звезда полей» и «Видение на холме», «Добрый Филя» и «Окошко. Стол. Половики…», и еще, и еще…
О трудах и днях Рубцова написано очень много. Здесь хочется привести поминальные слова о поэте хорошо его знавшего Виктора Астафьева, выдающегося писателя и мудрой личности: «Душа его жаждала просветления, жизнь – успокоения. Но она, жизнь… плохо доглядывает талантливых людей. И Господь, наградив человека дарованием, как бы мучает, испытует его им. И чем больше оно, дарование, тем больше муки и метания человека».
Так как же и во что сложились «муки и метания» Рубцова? Поэт родился 3 января 1936 года в поселке Емецк Архангельской области. Туда переехали из вологодских краев его родители – отец Михаил Андриянович и мать Александра Михайловна. То были, как принято ныне говорить, простые люди. Николай был четвертым ребенком в семье, после него родилось еще двое детей. В 1937 году семья обосновалась в Няндоме, где получил новую работу отец, который вскоре был арестован и почти год пробыл в заключении. В 1940-м семья вернулась в Вологду. С началом войны отец был призван в армию. Мама, на которую свалились непосильные заботы, умерла в июне 1942 года. Отсюда начинаются пути и перепутья, времена сиротства и мытарства, мучений и радостей. В поздние годы у Рубцова появится гениальная, среди прочих, строка, где время сжато до жуткой формулы: «Сиротский смысл семейных фотографий». Точнее и сильнее не скажешь.
Автор «Жизнеописания Николая Рубцова» – вологодский писатель и краевед Вячеслав Белков считал, и не без основания, что первое стихотворение поэта относится к лету 1942 года. Сам Рубцов в одной из своих автобиографий писал: «С пяти лет воспитывался в различных детдомах Вологодской области, в частности Никольском Тотемского района. Там закончил семь классов, и с тех пор мой, так сказать, дом всегда находился там, где я учился или работал. А учился в двух техникумах – в лесотехническом и горном, работал кочегаром тралового флота треста „Севрыба“, слесарем-сборщиком… в городе Ленинграде, шихтовщиком на Кировском (бывшем Путиловском) заводе, прошел четыре года военной службы на эскадренном миноносце Северного флота». Кстати, хотя Рубцов родился и жил среди северных лесов и деревень, его всегда тянуло море и все, что с морем романтически связано. Позднее он говорил близкому человеку: «В моих стихах две стихии. Стихия моря и стихия поля. О поле я много написал, а о море мало. К нему еще вернусь…» Не пришлось.
Следы его трудов и дней – это одновременно летопись бездомности и приобретений, тесноты общежитий, чужих углов и простора морей и больших городов. Все это ломало и ковало душу. Отсюда необыкновенная жизненность всего, что написал Рубцов, даже самого раннего или случайного. И вся огромность чувствований, переживаний, мыслей этих лет живет в его поэзии.
Когда Рубцов служил на флоте, то в Североморске («столице Северного флота») он посещал литературное объединение и начал довольно регулярно публиковаться во флотской печати. После демобилизации в 1959 году поэт жил и работал в Ленинграде. Там он также печатался, познакомился со многими молодыми ленинградскими поэтами. Среди них – Глеб Горбовский, Александр Кушнер, Виктор Кривулин. Там же он подготовил свою первую книжку стихотворений. Она называлась «Волны и скалы», в нее вошло тридцать восемь произведений. А главное, у нее был «грандиозный» тираж – 6 экземпляров. Но это тоже очень значительная веха.
В эту пору Рубцова-поэта начинают слышать и узнавать разные люди, в том числе литераторы. А это многое значит в становлении любого художника. На рубеже 1950-1960-х годов с редкой отчетливостью становится заметно, как вырос Рубцов, ведь именно в то время написаны такие отменные вещи: «Я весь в мазуте, весь в тавоте…», «Загородил мою дорогу…», «Утро утраты», изумительное стихотворение «Добрый Филя».
И вот зрелым человеком, с сильным и тревожным талантом, все так же не устроенный, Рубцов поступает в знаменитый Литературный институт им. Горького. То уже была Москва со всеми своими путями и беспутием. Рубцова заметили в институте, со вниманием и пониманием отнеслись к нему. И до наших дней в этом удивительном пространстве, почти на углу Тверского бульвара и Пушкинской площади, в знаменитом «Доме Герцена» и общежитии живут легенды о Рубцове той далекой поры.
Но не менее чем институт с его студенческой вольницей, с замечательными преподавателями, чрезвычайно много значило сближение Николая Рубцова с «кругом московских поэтов», по определению Вадима Кожинова. В этот круг входили – кто более, кто менее признанные – Владимир Соколов, Станислав Куняев, Анатолий Передреев, Борис Примеров,
Игорь Шкляревский. И здесь следует сказать о Вадиме Валерьяновиче Кожинове, объединяющем центре этого «круга», человеке выдающегося дара, обаяния, культуры.
Эта среда дала Рубцову, помимо ободряющего признания, очень-очень много. Но было бы ошибкой считать все эти связи и отношения идиллическими. Характер у поэта был непокладистый, страстный. По этой и другим причинам, а более всего за нарушение учебной дисциплины в 1964 году он был исключен из Литературного института и только после многих ходатайств был восстановлен на заочном отделении. Опять бездомность и безденежность. Институт он закончил в 1969 году уже известным поэтом. В институтские годы его стихи печатали журналы «Юность», «Молодая гвардия» и «Октябрь».
В 1963–1964 годах Рубцовым написаны такие классические вещи, как «Звезда полей», «Тихая моя родина…», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…», «Русский огонек» и другие. Московские друзья, как могли, помогали Рубцову. Они всячески способствовали росту его признания в тогдашней культурной среде, помогли издать в 1967 году книгу, ставшую и остающуюся событием, – «Звезда полей». Затем вышли сборники «Душа хранит» (Архангельск, 1969), «Сосен шум» (М., 1970), «Зеленые цветы» (М., 1975). Последняя книга была подготовлена к печати автором, но появилась уже после его смерти.
Только летом 1969 года он наконец получил квартиру в Вологде и прожил в ней последние полтора года жизни. Там же в ночь на 19 января 1971 года он погиб от руки женщины, с которой хотел связать свою судьбу. Как писал Кожинов, с 1964 года и до лета 1969-го «поэт, по существу, скитался между Никольским, Вологдой, Москвой и другими городами, не имея к тому же никакого надежного заработка».
Примерно за семь последних лет жизни Рубцов написал свои вершинные вещи.
Самым загадочным в искусстве Рубцова оказывается то, что среди стихотворений, которые пришлось ему написать, за редким исключением всегда отмеченных высоким талантом, вдруг появились вещи, которые, еще не остыв от рук мастера, стали классикой.
Русская поэзия, как и всякая поэзия, знает выдающихся мастеров, ценит их отдельные лирические пьесы, помнит строфы, строчки, образы. И совсем немного поэтов, сумевших создать лирическое сочинение редкого содержательного и формального единства, как говорится, без сучка без задоринки, где всё: тема, сюжет, строфика, ритм, интонация, стиль, колорит, образ, настроение – творят артистическое пространство, будто бы созданное из ничего. Говоря откровенно и не прибегая к выспренному тону, можно заметить, что сделанное из ничего, как правило, сделано из вечности. Потому невозможно для доказательства художественной оригинальности и силы из этого многосмыслия избрать нечто одно, даже то, что просится для избрания. Скажем, такие чудные строки: «сиротский смысл семейных фотографий», «стоит береза, старая, как Русь», «ветер всхлипывал, словно дитя» и др. Или в совсем короткой строчке вдруг обнаружится столько страдания, муки, скорбной правды – «мать придет и уснет без улыбки». И везде строка или строфа подобной красоты и силы исчерпывает себя полностью лишь как часть целого.