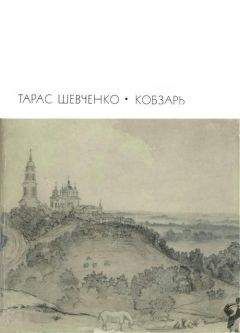В ранних произведениях Шевченко мы зачастую видим традиционные, почерпнутые из фольклорных образцов сравнения типа:
Кругом хлопцi та дiвчата —
Як мак процвiтає.
Но скоро на смену этим готовым формулам приходят чисто индивидуальные метафоры, сравнения, уподобления. Гус в его поэме «Еретик» стоит перед своими неправедными судьями,
Как в ливанском поле
Гордый кедр…
В «Тарасовой ночи» река Альта, обагренная кровью сражающихся, уподобляется красной змее. В ранней небольшой поэме «Гамалия» находим такое «приземленное» описание разбушевавшегося Босфора:
Босфор задрожал — потому не привык
К казацкому плачу: вскипел величавый
И серую шкуру подернул, как бык.
Босфор в виде серого быка с содрогающейся шкурой!
Неожиданно, очень выразительно и весьма далеко от внешней красивости…
Конкретность, наглядность шевченковских образов просто поражают:
Пустыня, как цыган, чернела…
Мне не спалось, а ночь как море…
У раннего Шевченко очень часты народные, постоянные эпитеты — сине море, бiле личко, кapi очi, темный гай, бистрый Дунай, сизогрилий орел, чорнi хмари, вiтep буйний, високi могили, дуб зелененький, червона калина… Не следует понимать слова постоянный эпитет в отрицательном смысле, как нечто застывшее, как враждебный подлинному искусству трафарет. Постоянный эпитет — самое простое и обыкновенное определение, раньше всего приходящее в голову, — зачастую бывает самым могучим изобразительным средством. Александр Блок начинает свои «Двенадцать» такими строками:
И эпитеты эти — черный и белый — лучше всего вводят читателя в трагическую атмосферу поэмы.
Но не менее могучи, разумеется, и оригинальные, индивидуальные, неповторимые эпитеты. Они появляются у Шевченко довольно рано и все гуще и гуще заселяют поле его поэзии: рожева зоря, латаний талан (буквально — заплатанная судьба), cipooкi скiфи, прескорбная мати, синьо-мундирнi часовi, свято чорнобриве (чернобровый праздник — в обращении к любимой женщине), очi — голубi аж чорнi. Иногда неожиданное применение общеупотребительного торжественного эпитета к слову «низкой речи» дает яркий сатирический эффект: святопомазана чуприна» (свято-помазанный хохол) — это о «помазанниках божьих», царях. Начало одного из прекраснейших лирических стихотворений Шевченко построено на неожиданных эпитетах:
И сонные волны, и мутное небо,
На берегу в далекой мгле
Камыш, как бы навеселе,
Без ветра гнется…
Первая строка в прозаическом переводе выглядит так: «И неумытое небо, и заспанные волны».
Стиховое разнообразие украинского поэта, которое кажется подчас даже прихотливым, происходит от желания возможно точнее передать мысль, картину, чувство, настроение, происходит от того, что Шевченко принадлежал к поэтам, воспринимающим мир в первую очередь музыкально. Неожиданные переходы из размера в размер встречаются и у других больших поэтов, — правда, реже. Вспомним поразительные хореические строки «На воздушном океане» в написанном четырехстопным ямбом «Демоне» Лермонтова, метрическое разнообразие «Фауста» Гете…
Совершенно новым явлением в мировой поэзии следует считать сочетание у Шевченко принятых украинскими и русскими поэтами нового времени силлабо-тонических размеров с размерами силлабическими и народно-песенными, а иногда и со своеобразным, свободным стихом, верлибром.
В метрическом отношении стихотворное наследство Шевченко делится на две основные группы. Первая группа, условно называемая силлабической, — это так называемые «коломыйковые» стихи по схеме восемь слогов, шесть слогов с общей хореической тенденцией, но с очень свободным размещением ударений:
В таку добу пiд горою
Бiля того гаю,
Що чорнiє над водою,
Щось бiле блукає.
И одиннадцати- двенадцатислоговый стих с общей амфибрахической тенденцией, но тоже с весьма свободным расположением ударений по обе стороны обязательной цезуры:
Дивлюся, смiюся, // дрiбнi утираю…
Я не одинокий, // є з ким в свiтi жить;
У моïй xaтiнi, // як в степу безкраïм,
Козацтво гуляє, // байрак гомонить;
У моïй хатинi // синє море грає,
Могила сумує, // тополя шумить…
Прежние переводчики совершенно обесцвечивали ритмику Шевченко, переводя стихи первого типа чистыми хореями, второго типа — амфибрахиями. Мне кажется, что ключ к пониманию ритмического секрета Шевченко в целом ряде стихотворений следует искать в песне. Шевченко принадлежит к числу тех поэтов, которые, слагая стихи, внутренне поют их. Это, может быть, самые трудные для перевода поэты.
Вторая стихотворная группа — это четырехстопный ямб пушкинского типа. Шевченко, однако, очень свободно расставляет ударения не только в силлабических, но и в силлабо-тонических стихотворениях. Исследователи говорят об умелом пользовании рифмой — причем часто очень свежей (особенно для того периода развития украинского слова) и глубокой, об ассонансах и диссонансах, о том, что буквально нет ни страницы, где бы не было великолепной игры внутренними рифмами, о мастерстве звукописи:
Неначе ляля в льолi бiлiй…
или:
Гармидер, галас, гам у гaї.
Рифма у поэта подчас небрежна, но, конечно, не небрежностью объясняются такие созвучия, как «вечеряти — в очеретi), как сложная «песенная» рифма «калино моя — поливаная»… Примеры эти свидетельствуют, наоборот, о признанном теперь всеми большом, сознательном мастерстве. Мастерство это было поставлено на службу тому великому делу, каким Шевченко считал дело поэта.
IV
В одном из стихотворений, написанных после ссылки, которая надломила физически, но не поколебала духовно великого поэта Шевченко обращается к своей музе:
В ночи,
И днем, и в утреннем тумане
Ты надо мной витай, учи,
Учи не лживыми устами
Вещать лишь правду в наши дни.
Говорить правду — в этом видел Шевченко неотъемлемое право и высокую обязанность поэта. И этому завету он был верен всю жизнь.
Мятежный и страстный дух Шевченко нелегко укладывается в какие бы то ни было рамки. Нам кажется бесспорным, что между Шевченко до 1847 года (года ссылки), когда вращался он в кругу «кирилло-мефодиевцев» — Кулиша, Костомарова и других, во многом уже тогда ожесточенно споривших с бунтарем Тарасом (он страстно призывал к восстанию во имя освобождения народа), а впоследствии неуклонно отходивших вправо, — и Шевченко 1857–1861 годов, когда состоялось идейное сближение поэта с Добролюбовым, Чернышевским и другими представителями передовой русской мысли, есть большая разница. Впрочем, эволюция мировоззрения Шевченко в сторону последовательной революционности и широкого интернационализма началась, как это отмечал Франко, в начале 40-х годов, когда еще слышались в России отзвуки декабрьского восстания. В годы ссылки революционность Шевченко, все большее внимание его к социальным проблемам не только не притупились, а, наоборот, явно окрепли.
Вся жизнь его и все его творчество подчинены одной центральной идее. Эта идея — верность народу, ненависть ко всякому гнету и произволу, деятельная любовь к отчизне. Служил Шевченко этой идее своим огненным словом. О силе слова как оружия говорил он ясно и четко:
Возвеличу
Рабов и малых и немых!
Я стражем верным возле них
Поставлю слово…
Следует отметить, что Шевченко — один из творцов современного литературного украинского языка — не раз обращался и к языку русскому и что не только количественно большая часть его творческого наследия (проза, две поэмы, отрывок драмы), но и совершенно интимный его дневник («Журнал») написаны по-русски. Мимо этого факта нельзя пройти. Нельзя вместе с тем не заявить со всей решительностью, что поэт сильнее всего выражает себя тогда, когда пишет на родном языке.
Три дара было отпущено Шевченко щедрой природой: дар певца, дар художника, дар писателя — поэта и прозаика.
Именно как художник обратил на себя внимание интеллигентных современников крепостной ученик малярного дела, сын бедного украинского крестьянина, по воле помещика попавший в Петербург, — именно дар художника открыл ему доступ в круг передовых людей того времени, помогших юноше получить образование и добившихся выкупа его из крепостной зависимости. Значение Шевченко как живописца, рисовальщика, гравера само по себе могло бы обеспечить ему почетное место в истории искусства.