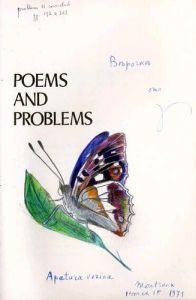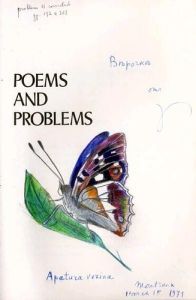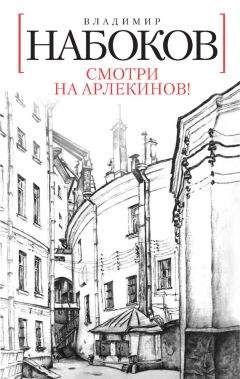Modern Russian Poetry — Modern Russian Poetry: An Anthology with verse translations / Ed. by V. Markov and M. Sparks. Alva: Mac Gibbon and Kee, 1969.
Nabokov's Congeries — Nabokov's Congeries / Ed. by Page Stegner. New York: Viking, 1968.
Nabokov-Wilson Letters — The Nabokov-Wilson Letters. Correspondence Between Vladimir Nabokov and Edmund Wilson, 1941–1971 / Ed., annotated and with an introductory essay by Simon Karlinsky. New York: Harper and Row, 1979.
Poems 1959 — Nabokov V. Poems. Garden City, New York: Doubleday and Company, Inc., 1959.
P&P — Nabokov V. Poems and Problems. New York; London: McGraw-Hill, 1970.
Pushkin, Lermontov, Tyutchev. Poems — Three Russian Poets; Pushkin, Lermontov, Tyutchev. Poems / Transl. by Vladimir Nabokov. London: Lindsay Drummond, 1947.
Three Russian Poets — Three Russian Poets: Selections from Pushkin, Lermontov and Tyutchev. / Transl. by Vladimir Nabokov. Norfolk, CT: New Directions, 1944.
Владимир Владимирович Набоков (псевдонимы Владимир Сирин, Василий Шишков) (1899–1977) — второстепенный русский поэт, переводчик, автор нескольких драм в стихах — родился в Петербурге, в 1918 году эмигрировал, с 1940 года жил в Америке, где писал по-английски, умер в Швейцарии… Поэт Владимир Сирин мало привлекал внимание исследователей по сравнению со знаменитым русско-американским прозаиком Владимиром Набоковым — об этом свидетельствует немногочисленность работ о его стихах. И это несмотря на то, что материал самим автором заботливо подготовлен для исследования: объединен в сборники, в том числе дефинитивный — «Стихи» 1979 года. Все отобранные стихи Набоковым датированы и откомментированы в предисловии и примечаниях к «Poems and Problems» (New York; London: McGraw-Hill, 1970). Имеются также его «письма о русской поэзии» (рецензии Сирина 1920–1930 годов), заметки о русской и английской просодии и искусстве перевода (комментарий к переводу «Евгения Онегина» и сопровождавшие его публикации). Одиннадцатая глава английского варианта автобиографии «Speak, Memory» (1966) и пассажи в «Даре» (1937–1938, 1952) посвящены рассуждениям о чуде поэтического вдохновения и технике стихотворчества. Набоков также несколько раз создавал несуществующих поэтов, снабжая их стихами или стихотворными строчками с комментарием — это Федор Годунов-Чердынцев и Кончеев в «Даре», Василий Шишков в одноименном рассказе (1939) и напечатанных под этим псевдонимом стихотворениях «Поэты»(1939) и «К России» (1940), Константин Перов из английского рассказа «А Forgotten Poet» («Забытый поэт», 1944), Джон Шейд из романа «Pale Fire» («Бледный огонь», 1962). Сам Набоков — несмотря на непризнание публики и критиков — долгое время считал себя прежде всего поэтом: до выхода первого романа «Машенька» (1926) он опубликовал более четырехсот стихотворений (а написал около тысячи). В годы своей «пост-Лолитиной» славы Набоков собрал, практически не редактируя, свои старые, в том числе и юношеские, стихи в два итоговых сборника, «Poems and Problems» (1970) и «Стихи» (1979) — повторив в них заглавия ранних сборников (рукописного крымского альбома «Стихи и схемы» (1918) и первого опубликованного сборника «Стихи» (1916)) — закруглив таким образом поэтический сюжет и подчеркнув этим «conclusive evidence», что для него писание стихов было, не ошибками молодости или journal intime, a «вечным спутником».
Несмотря на важность поэтической составляющей в творчестве Набокова, она почти не привлекала внимания исследователей. Мнения эмигрантских критиков о ранних (до 1929 года) стихах Сирина суммированы в отзыве Германа Хохлова:
Стихи Сирина отличаются такой же точностью, тщательностью и заостренностью языка, как и проза. Но то, что делает ткань прозаических произведений крепкой и прочной, вносит в условный материал поэзии излишнюю прямолинейность и сухость. Стихи Сирина, при всей своей образности и технической отделанности, производят впечатление подкованной рифмами ритмической прозы. В них много рассудочности, добросовестности, отчетливости и очень мало настоящей поэтической полнозвучности.{1}
Первая попытка систематического анализа поэзии Сирина-Набокова была предпринята Глебом Струве в его труде «Русская литература в изгнании» (1956). Струве писал о пропасти, лежащей между ранними и поздними стихами Набокова, о резкой смене поэтических образцов: если в юности (сборники «Гроздь» и «Горний путь») Набоков был «поэтическим старовером», ориентировавшимся на поэтику «в лучшем случае Фета и Майкова, а в худшем — Ратгауза», то в его зрелой поэзии слышны ритмические и словесные ходы Пастернака, Ходасевича, иногда Белого, Мандельштама и Поплавского.{2} Выход в 1979 году сборника «Стихи» вызвал короткий всплеск интереса к его поэзии.{3} Наиболее значительные статьи о поэзии Набокова собраны в журнале Russian Literature Triquaterly (1991. № 24) под редакцией Дональда Бартона Джонсона, свод всего написанного о поэзии Набокова дан в соответствующих статьях набоковской энциклопедии «The Garland Companion to Vladimir Nabokov» (ed. by Vladimir E. Alexandrov. New York; London: Garland, 1995).
Практически все выходившие ранее исследования о поэзии Набокова ограничивались материалом сборника 1979 года, так что многие тексты — несобранные стихотворения, непереиздававшиеся переводы, стихи на английском — выпадали из области исследовательского внимания.{4} Настоящее издание не может претендовать на полноту из-за закрытости архива{5} — наша цель с максимальной полнотой представить опубликованный корпус Набокова-поэта и все относящиеся к этой стороне его творчества факты и исследования, а также обозначить проблемы и возможные направления анализа его поэзии. Мы также не будем здесь подробно излагать биографию Набокова; эти сведения можно найти в двух книгах Брайена Бойда,{6} первая из которых, посвященная «русским годам», вышла в русском переводе.
В беллетризованном воспоминании о «первом стихотворении» Набоков рассказывает, что впервые «цепенящее неистовство стихосложения» нашло на него в Выре, летом 1914 года, накануне войны, и первое стихотворение было элегией «об утрате возлюбленной — Делии, Тамары или Ленор, — которой я никогда не терял, никогда не любил, никогда не встречал, но был весь готов встретить, полюбить, потерять» (Nabokov V. Speak, Memory: An Autobiography Revisited. New York, 1967. P. 225. Перевод здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, наш.). Здесь Набоков использует характерный для его поэтики прием двойной экспозиции: впечатление, послужившее толчком к сочинению стихотворения, позволяет идентифицировать его не с традиционной романтической элегией, апострофирующей условную возлюбленную, а со стихотворением 1917 года «Дождь пролетел», самым ранним из включавшихся Набоковым в сборники:
Мгновение спустя началось мое первое стихотворение. Что его подтолкнуло? Думаю, что знаю. Без малейшего дуновения ветра, самый вес дождевой капли, сверкавшей заемной роскошью на сердцевидном листе, заставил его кончик опуститься, и то, что было похоже на шарик ртути, совершило неожиданное глиссандо вниз вдоль центральной жилки — и, сбросив свою яркую ношу, освобожденный лист разогнулся. «Лист / душист, благоухает / роняет». Мгновение, в которое все это произошло, кажется мне не столько отрезком времени, сколько щелью в нем, пропущенным ударом сердца, который был тут же компенсирован стуком рифм. Я специально говорю «стуком», потому что когда наконец налетел порыв ветра, деревья вдруг все разом начали капать, настолько же приблизительно имитируя недавнее низвержение воды, насколько строка, что я уже бормотал, напоминала только что испытанный шок, когда на миг сердце и лист стали одним.
(Nabokov. Speak, Memory. P. 217)
— ср.:
Дождь пролетел и сгорел на лету.
Иду по румяной дорожке.
Иволги свищут, рябины в цвету,
Белеют на ивах сережки.
Воздух живителен, влажен, душист,
Как жимолость благоухает!
Кончиком вниз наклоняется лист
И с кончика жемчуг роняет.
(Дождь пролетел){7}
Упоминание среди абстрактных адресатов элегии имени Тамара предвосхищает и вызывает появление в следующей главе автобиографии «реальной» возлюбленной Тамары, прототипом которой послужила Валентина Шульгина, адресат первого поэтического сборника Набокова «Стихи» 1916 года, — таким образом «первое стихотворение» связывается и с первым сборником стихов.{8}
Сборник «Стихи» был издан в 1916 году в Петрограде «художественно-графическим заведением» «Унион», на деньги автора в количестве 500 нумерованных экземпляров (одно стихотворение этого сборника, «Лунная греза», было также опубликовано в «толстом» журнале «Вестник Европы» (1916. Кн. 7)). Сборник посвящен Валентине (Набоков звал ее Люся) Шульгиной,{9} с которой Владимир Набоков встретился 9 августа 1915 года, «если быть по-Петрарковски точным», в беседке с цветными стеклами в парке набоковской Выры (30 лет спустя Набоков ошибочно утверждал, что опубликовал этот стихотворный сборник под псевдонимом «Валентин Набоков»). Их летний роман продолжался зиму 1915–1916 года в Петербурге, второе лето — в Выре-Рождествено и закончился осенью 1916 года. Все это время Набоков «не переставал писать стихи к ней, для нее, о ней — по две-три „пьески“ в неделю» (Набоков V. С. 290),[1] но уже вышедший весной 1916 года, больше чем за полгода до расставания, сборник из 68 стихотворений был почти весь, по наблюдению Люси, «о разлуках и утратах». О критических отзывах известно главным образом из рассказов самого Набокова в «Других берегах»: Владимир Васильевич Гиппиус, поэт и историк литературы, преподававший словесность в Тенишевском училище, поэмой которого «Лик человеческий» (1922) Набоков и позже восхищался (см.: Набоков V. С. 291), принес экземпляр сборника в класс и «подробно разнес его при всеобщем, или почти всеобщем, смехе» (Набоков V. С. 291). К. И. Чуковский, которому Владимир Дмитриевич Набоков подарил экземпляр сборника, прислал комплиментарный ответ, но, как будто по оплошности, вложил в конверт черновик более критического характера (Бойд. Русские годы. С. 146–147). Автор, оглядываясь назад, согласился с ними: «Спешу добавить, что первая эта моя книжечка стихов была исключительно плохая, и никогда бы не следовало ее издавать» (Набоков V. С. 290) и действительно не переиздал из нее ни одного стихотворения.{10} Когда, спустя 30 лет, сестра Набокова Е. В. Сикорская в Праге обнаружила экземпляр сборника и переписала его для брата, он не разделил ее сентиментальной радости: «Недалеко я ходил за эпитетами в те дни».{11} Построенный по календарному принципу, сборник отражает топографию любовного романа (усадьба — город); его образную систему отличает крайняя ограниченность цветовой палитры: представлены дымчато-белый, голубой, синий, лиловый и алый с золотом закатного неба (с преобладанием символистской лазури) — что удивительно в рассуждении прозы Набокова и его наблюдений над цветом в эссе о Гоголе, где он противопоставляет подслеповатость допушкинской литературы импрессионистскому зрению Гоголя: «Небо было голубым, заря алой, листва зеленой, глаза красавиц черными, тучи серыми и т. д. Только Гоголь (а за ним Лермонтов и Толстой) увидели желтый и лиловый цвета. То, что небо на восходе может быть бледно-зеленым, снег в безоблачный день густо-синим, прозвучало бы бессмысленной ересью в ушах так называемого писателя-„классика“, привыкшего к неизменной, общепринятой цветовой гамме французской литературы 18 в.».{12} Гербарий сборника 1916 года исключительно альбомно-цветочный (лилия, роза, василек, одуванчик, хризантема, незабудка, сирень, акация, гвоздика, вербена, жасмин, орхидея, ромашка, скабиоза, пион, вереск, георгин, астра, табак, черемуха, гиацинт, гелиотроп, ландыш), из фауны — бабочки, мотыльки, птички и неопределенные «ласковые розовые букашки», удивительные для юного энтомолога. Ограниченность образной системы приводит к частым тавтологическим повторам («Как люблю зимою нежащие взгляды / Райского безмолвия, райской чистоты»). Помимо свидетельства неопытности «молодого русского версификатора», они обусловлены доминантной темой воспоминания («Ты помнишь, как в темной траве светлячок, / Любовью сияя, к нам в очи глядел? <…> Когда мы расстались, я долго блуждал / По милым местам, где мы были вдвоем, / В траве светлячок тот же самый сиял / Своим одиноким знакомым огнем») и романтической антропоморфизацией природы, отражающей состояние героев («Лиловый дым над снегом крыши / По небу розовому плыл / <…> / Печали думы, тихо рея / По небу розовой любви, / Исчезли, ветрено бледнея, / Как эти дымные венки»). Используя автобиографический материал романа с Люсей в своем первом романе «Машенька» и автобиографии, Набоков несколько модернизировал поэтический фон своего прошлого. Если поэтика стихотворений сборника восходит, в первую очередь, к массовой романсной и журнальной стихотворной традиции, то в прозе любовь к популярной поэзии Набоков переадресует своей возлюбленной: «У нее был <…> огромный запас второстепенных стихов, — тут были и Жадовская, и Виктор Гофман, и К. Р., и Мережковский, и Мазуркевич, и Бог знает еще какие дамы и мужчины, на слова которых писались романсы, вроде „Ваш утолок я убрала цветами“ или „Христос воскрес, поют во храме“» (Набоков V. С. 285). В прозаическом парафразе встречи в приусадебном парке содержат топосы классической поэзии, «вроде „лесной сени“, „уединенности“, „сельской неги“ и прочих пушкинских галлицизмов» (Там же. С. 287), бездомье встреч в зимнем Петербурге описывается в стилистике неоклассицизма рубежа веков («вертикально падающий крупный снег Мира Искусства», блуждания «лунными вечерами по классическим пустыням Петербурга» с традиционным для петербургского текста выходом на простор «дивной площади», где «беззвучно возникали перед нами разные зодческие призраки: я держусь лексикона, нравившегося мне тогда», где «тот столп, увенчанный черным ангелом, который в лунном сиянии безнадежно пытался дотянуться до подножья пушкинской строки» (Там же. С. 290)). А предвестья будущих исторических бед, сопровождавшие их последнюю встречу с Тамарой в дачном поезде, вводятся отсылкой к Блоку: «С одной стороны полотна, над синеватым болотом, темный дым горящего торфа сливался с дотлевающими развалинами широкого оранжевого заката. Интересно, мог ли бы я доказать ссылкой на где-нибудь напечатанное свидетельство, что как раз в тот вечер Александр Блок отмечал в своем дневнике этот дым, эти краски» (Там же. С. 293).{13} Сборник 1916 года кладет начало характерной черте поэтики Набокова, которую В. Ходасевич, применительно к Пушкину, назвал «бережливостью», а Клэренс Браун в статье о Набокове — «повторяемостью».{14} он многократно использует один и тот же образ. «Будущему узкому специалисту-словеснику» небезынтересно будет проследить, как «велосипедный номер» переходит из стихотворения сборника 1916 года «Осеннее» в «Машеньку», «Другие берега» и далее в «Аду»; образ падающего сухого листа хризантемы — из стихотворения «Дрожит хризантема, грустя…» в рассказы «Месть» (1924), «Лебеда» (1932), четвертую главу «Других берегов».