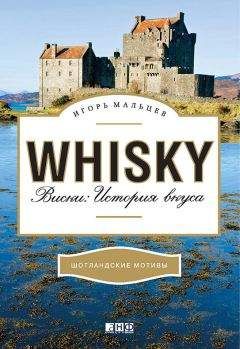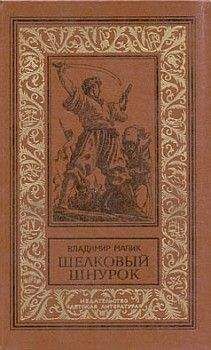Янв. 1927
Когда заря прозрачной глыбой
придавит воздух над землей,
с горы, на колокол похожей,
летят двускатные орлы;
идут граненые деревья
в свое волшебное кочевье;
верхушка тлеет, как свеча,
пустыми кольцами бренча;
а там за ними, наверху,
вершиной пышною качая,
старик Эльбрус рахат-лукум
готовит нам и чашку чая.
И выплывает вдруг Кавказ
пятисосцовою громадой,
как будто праздничный баркас,
в провал парадный Ленинграда,
а там — черкешенка поет
перед витриной самоварной,
ей Тула делает фокстрот,
Тамбов сапожки примеряет,
но Терек мечется в груди,
ревет в разорванные губы
и трупом падает она,
смыкая руки в треугольник.
Нева Арагвою течет,
а звездам — слава и почет:
они на трупик известковый
венец построили свинцовый,
и спит она… прости ей бог!
Над ней колышется венок
и вкось несется по теченью
луны путиловской движенье.
И я стою — от света белый,
я в море черное гляжу,
и мир двоится предо мною
на два огромных сапога —
один шагает по Эльбрусу,
другой по-фински говорит,
и оба вместе убегают,
гремя по морю — на восток.
Янв. 1926
Пунцовое солнце висело в длину,
и весело было не мне одному —
людские тела наливались как груши,
и зрели головки, качаясь, на них.
Обмякли деревья. Они ожирели
как сальные свечи. Казалося нам —
под ними не пыльный ручей пробегает,
а тянется толстый обрывок слюны.
И ночь приходила. На этих лугах
колючие звезды качались в цветах,
шарами легли меховые овечки,
потухли деревьев курчавые свечки;
пехотный пастух, заседая в овражке,
чертил диаграмму луны,
и грызлись собаки за свой перекресток —
кому на часах постоять…
Авг. 1927
На карауле ночь густеет,
стоит, как кукла, часовой,
в его глазах одервенелых
четырехгранный вьется штык.
Тяжеловесны, как лампады,
знамена пышные полка
в серпах и молотах измятых
пред ним свисают с потолка.
Там пролетарий на коне
гремит, играя при луне;
там вой кукушки полковой
угрюмо тонет за стеной;
тут белый домик вырастает
с квадратной башенкой вверху,
на стенке девочка витает,
дудит в прозрачную трубу;
уж к ней сбегаются коровы
с улыбкой бледной на губах…
А часовой стоит впотьмах
в шинели конусообразной;
над ним звезды пожарик красный
и серп заветный в головах.
Вот — в щели каменные плит
мышиные просунулися лица,
похожие на треугольники из мела
с глазами траурными по бокам…
Одна из них садится у окошка
с цветочком музыки в руке,
а день в решетку пальцы тянет,
но не достать ему знамен.
Он напрягается и видит:
стоит, как кукла, часовой
и пролетарий на коне
его хранит, расправив копья,
ему знамена — изголовье
и штык ружья — сигнал к войне…
И день доволен им вполне.
Февр. 1927
Выходит солнце над Москвой,
старухи бегают с тоской:
куда, куда итти теперь?
Уж новый быт стучится в дверь!
Младенец нагладко обструган,
сидит в купели как султан,
прекрасный поп поет как бубен,
паникадилом осиян;
прабабка свечку выжимает,
младенец будто бы мужает,
но новый быт несется вскачь —
младенец лезет окарач.
Ему не больно, не досадно,
ему назад не близок путь,
и звезд коричневые пятна
ему наклеены на грудь.
Уж он и смотрит свысока,
(в его глазах — два оселка),
потом пирует до отказу
в размахе жизни трудовой,
гляди! гляди! он выпил квасу,
он девок трогает рукой
и вдруг, шагая через стол,
садится прямо в комсомол.
А время сохнет и желтеет,
стареет папенька-отец
и за окошками в аллее
играет сваха в бубенец.
Ступни младенца стали шире,
от стали ширится рука,
уж он сидит в большой квартире,
невесту держит за рукав.
Приходит поп, тряся ногами,
в ладошке мощи бережет,
благословить желает стенки,
невесте — крестик подарить…
— Увы! — сказал ему младенец, —
уйди, уйди, кудрявый поп,
я — новой жизни ополченец,
тебе-ж — один остался гроб!
Уж поп тихонько плакать хочет,
стоит на лестнице, бормочет,
уходит в рощу, плачет лихо;
младенец в хохот ударял —
с невестой шепчется: Шутиха,
скорей бы час любви настал!
Но вот знакомые скатились,
завод пропел: ура! ура!
и новый быт, даруя милость,
в тарелке держит осетра.
Варенье, ложечкой носимо,
успело сделаться свежо,
жених проворен нестерпимо,
к невесте лепится ужом,
и председатель на-отвале,
чете играя похвалу,
приносит в выборгском бокале
вино солдатское, халву,
и, принимая красный спич,
сидит на столике кулич.
Ура! ура! — заводы воют,
картошкой дым под небеса,
и вот супруги на покое
сидят и чешут волоса.
И стало все благоприятно:
приходит ночь, ушла обратно,
и за окошком через миг
погасла свечка-пятерик.
Апр. 1927
Сидит извозчик как на троне,
из ваты сделана броня,
и борода, как на иконе,
лежит, монетами звеня.
А бедный конь руками машет,
то вытянется, как налим,
то снова восемь ног сверкают
в его блестящем животе.
Дек. 1927
В уборе из цветов и крынок
открыл ворота старый рынок.
Здесь бабы толсты словно кадки,
их шаль — невиданной красы,
и огурцы, как великаны,
прилежно плавают в воде.
Сверкают саблями селедки,
их глазки маленькие кротки,
но вот — разрезаны ножом —
они свиваются ужом; и
мясо властью топора
лежит как красная дыра;
и колбаса кишкой кровавой
в жаровне плавает корявой;
и вслед за ней кудрявый пес
несет на воздух постный нос,
и пасть открыта словно дверь,
и голова — как блюдо,
и ноги точные идут,
сгибаясь медленно посередине.
Но что это?
Он с видом сожаленья
остановился наугад
и слезы, точно виноград,
из глаз по воздуху летят.
Калеки выстроились в ряд,
один — играет на гитаре;
он весь откинулся назад,
ему обрубок помогает,
а на обрубке том — костыль
как деревянная бутыль.
Росток руки другой нам кажет,
он ею хвастается, машет,
он вырвал палец через рот,
и визгнул палец, словно крот,
и хрустнул кости перекресток,
и сдвинулось лицо в наперсток.
А третий — закрутив усы,
глядит воинственным героем,
в глазах татарских, чуть косых —
ни беспокойства ни покоя;
он в банке едет на колесах,
во рту запрятан крепкий руль,
в могилке где-то руки сохнут,
в какой-то речке ноги спят…
На долю этому герою
осталось брюхо с головою
да рот большой, как рукоять,
рулем веселым управлять!
Вон — бабка с пленкой вместо глаз
сидит на стуле одиноком,
и книжка в дырочках волшебных
(для пальцев — милая сестра)
поет чиновников служебных,
и бабка пальцами быстра…
Ей снится пес.
И вот — поставлен
судьбы исправною рукой,
он перед ней стоит, раздавлен
своей прекрасною душой!
А вкруг — весы как магелланы,
отрепья масла, жир любви,
уроды словно истуканы
в густой расчетливой крови,
и визг молитвенной гитары,
и шапки полны, как тиары,
блестящей медью… Недалек
тот миг, когда в норе опасной
он и она, он — пьяный, красный
от стужи, пенья и вина,
безрукий, пухлый, и она —
слепая ведьма — спляшут мило
прекрасный танец-козерог,
да так, что затрещат стропила
и брызнут искры из-под ног…
И лампа взвоет как сурок.
Дек. 1927