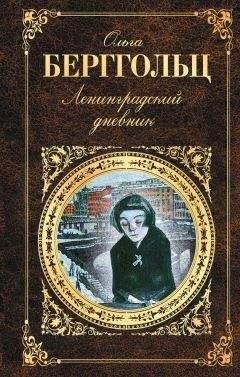Из цикла «Анне Ахматовой»
1…Она дарить любила.
Всем. И – разное.
Надбитые флаконы и картинки
и жизнь свою, надменную, прекрасную,
до самой той, горючей той кровинки.
Всю – без запинки.
Всю – без заминки.
…Что же мне подарила она?
Свою нерекламную твердость.
Окаяннейшую свою,
молчаливую гордость.
Волю – не обижаться на тех,
кто желает обидеть.
Волю – видеть до рези в глазах,
и все-таки видеть.
Волю – тихо, своею рукой задушить
подступившее к сердцу отчаянье,
Волю – к чистому, звонкому слову.
И грозную волю – к молчанию.
19702Анна Ахматова в 1941 году в Ленинграде
У Фонтанного дома, у Фонтанного дома,
у подъездов, глухо запахнутых,
у резных чугунных ворот
гражданка Анна Андреевна Ахматова,
поэт Анна Ахматова
на дежурство ночью встает.
На левом бедре ее
тяжелеет, обвиснув, противогаз,
а по правую руку, как всегда, налегке,
в покрывале одном,
приоткинутом
над сиянием глаз,
гостья милая – Муза
с легкою дудочкою в руке.
А напротив, через Фонтанку, –
немые сплошные дома,
окна в белых крестах. А за ними ни искры,
ни зги.
И мерцает на стеклах
жемчужно-прозрачная тьма.
И на подступах ближних отброшены
снова враги.
О, кого ты, кого, супостат, захотел
превозмочь?
Или Анну Ахматову,
вставшую у Фонтанного дома,
от Армии невдалеке?
Или стражу ее, ленинградскую эту бессмертную
белую ночь?
Или Музу ее со смертельным оружьем,
с легкой дудочкой
в легкой руке?
1970 или 1971
«О, как меня завалило жгучим пеплом эпохи…»
О, как меня завалило жгучим пеплом эпохи!
Пеплом ее трагедий, пеплом ее души…
Из зыбкой своей могилы: «Милый, – кричу я, –
милый, спаси,
хотя бы внемли!..»
Из жаркой своей могилы кричу: «Что было,
то было.
То, что свершается, свершается не при нас…
Но – с моего согласья!..»
1970-е годы
Из неосуществленной книги «Великие поэты века»
Здесь только крест из дерева
невиданной породы
и над холмом
одни трилистники встают.
Здесь –
только Ты.
Ты – как сама природа.
Ты и твоя последняя свобода…
Бездомный, как всегда,
твой мировой уют…
1967
2О живущая нестерпимо,
о идущая неизгладимо,
оставляющая светоносный след!
Что за благость ко мне явилась?
Божья ль это,
людская милость?
Рядом быть с твоею судьбой,
заслонять хоть на миг собой.
Что ж, что это было напрасно?
Часто робким, чаще безгласным,
по своим законам живем.
По кремнистым путям идем.
Я иду за тобою
след в след.
Я целую его
свет в свет.
Я бессонна, как ты,
бред в бред.
Знаю так же, как ты,
что смерти нет.
Между 1973 и 1975 (?)
lТы как острастка
вечному злословью
равнодушья.
Ты – совесть и гордыня поколенья.
Праправнук
протопопа
Аввакума –
нежнейший,
беспощадный,
чистый свет…
<?>
Юности великая гордыня,
Знамя и свобода –
только ты.
Знаю – ты ведешь меня
доныне
через разведенные мосты…
<?>
Но для меня не существует дат.
Теперь уж навеки,
теперь до конца
незыблемо наше единство.
Я мужа тебе отдала, и отца,
и радость свою – материнство.
И нет мне дороже награды,
чем в годы военной угрозы
моих благородных сограждан
скупые и светлые слезы.
За всё и за всех виноватой,
душе не сказавшей «прости»,
одной мне из этой палаты,
одной никогда не уйти.
из дневников 1939–1942 годов
Забвение истории своей Родины, страданий своей Родины, своих лучших болей и радостей, – связанных с ней испытаний души – тягчайший грех. Недаром в древности говорили:
– Если забуду тебя, Иерусалиме…
О. Берггольц.Из подготовительных записей ко второй части «Дневных звезд»
15/VII-39
13 декабря 1938 г. меня арестовали, 3 июля 39-го, вечером, я была освобождена и вышла из тюрьмы. Я провела в тюрьме 171 день. Я страстно мечтала о том, как я буду плакать, увидев Колю и родных, – и не пролила ни одной слезы. Я нередко думала и чувствовала там, что выйду на волю только затем, чтобы умереть, – но я живу… подкрасила брови, мажу губы…
Я еще не вернулась оттуда, очевидно, еще не поняла всего…
4/IX-39
Все еще почти каждую ночь снятся тюрьма, арест, допросы. (Отнесла стихи в «Известия», составила книжку стихов. «Да, взлета, колодца – все еще нет, да и будет ли он у меня?»)
21/IX-39
Тупость проходит понемногу-понемногу. Но все еще пресно. Хочется абсолютного одиночества, потому что в нем можно хотя бы думать, но донимают приятельницы, надо же поговорить с ними, хоть чувствую от этого свою неискренность и сухость. Много по ночам говорили с Колей о жизни, о религии, о нашем строе. Интересные и горькие мысли. Это, вероятно, приходит человеческая зрелость, ну, а потом, что? Не знаю. Пока все, практически, остается так же незыблемо, как и было. И уже, очевидно, не сможет стать иным или иначе.
А мне не страшно, никаких мыслей; как было страшно, скажем, три года назад… Нет, не должен человек бояться никакой своей мысли. Только тут абсолютная свобода. Если же и там ее нет – значит, ничего нет.
15/Х-39
Да, я еще не вернулась оттуда. Оставаясь одна дома, я вслух говорю со следователем, с комиссией, с людьми – о тюрьме, о постыдном, состряпанном «моем деле». Все отзывается тюрьмой – стихи, события, разговоры с людьми. Она стоит между мной и жизнью…
6/XI-39, 2 ч. ночи
Завтра 22 года Октябрьской революции.
Я приветствую вас, Мария Рымшан, Ольга Абрамова, Настасья Мироновна Плотникова, Елена Иванова, Женя Шабурашвили – коммунистки, беспартийные честные товарищи, сидящие или не сидящие в камерах Арсеналки и Шпалерки!
Я с вами сейчас, родные мои товарищи. Я рыдаю о вас, я верю вам, я жажду вашей свободы, восстановления вашей чести.
Товарищи, родные мои, прекрасные мои товарищи, все, кого знаю и кого не знаю, все, кто ни за что томится сейчас в тюрьмах в Советской стране, о, если б знать, что это мое обращение могло помочь вам, отдала бы вам всю жизнь!
Я с вами, товарищи, я с вами, я с вами, бойцы интернациональных бригад, томящиеся в концлагерях Франции. Я с вами, все честные и простые люди: вас миллионы, тех, кто честно и прямо любит Родину, с поднятой головой и открытыми устами!
Я буду полна вами завтра, послезавтра, всегда, я буду прямой и честной, я буду до гроба верна мечте нашей – великому делу Ленина, как бы трудна она ни была! Уже нет обратного пути.
Я с вами, товарищи, я с вами!
14/XII-39
Ровно год тому назад я была арестована.
Ощущение тюрьмы сейчас, после 5 месяцев воли, возникает во мне острее, чем в первое время после освобождения. И именно ощущение, т. е. не только реально чувствую, обоняю этот тяжкий запах коридора из тюрьмы в «Б<ольшой> дом», запах рыбы, сырости, лука, стук шагов по лестнице, но и то смешанное состояние посторонней заинтересованности, страха, неестественного спокойствия и обреченности, безвыходности, с которыми шла на допросы.
…Да, но зачем все-таки подвергали меня все той же муке?! Зачем были те дикие, полубредовые желто-красные ночи (желтый свет лампочек, красные матрасы, стук в отопительных трубах, голуби)?
И это безмерное, безграничное, дикое человеческое страдание, в котором тонуло мое страдание, расширяясь до безумия, до раздавленности?
Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули ее обратно и говорят: «Живи». Произошло то же, что в щемящей щедринской сказке «Приключения с Крамольниковым»: «Он понял, что все оставалось по-прежнему, – только душа у него „запечатана”».
«Но когда он хотел продолжать начатую работу, то сразу убедился, что, действительно, ему предстоит провести черту и под нею написать: „не нужно”».
Со мною это и так, и все-таки не так. Вот за это-то «не так» я и хватаюсь. Действительно, как же я буду писать роман о нашем поколении, о становлении его сознания к моменту его зрелости, роман о субъекте эпохи, о субъекте его сознания, когда это сознание после тюрьмы потерпело такие погромы, вышло из дотюремного равновесия?