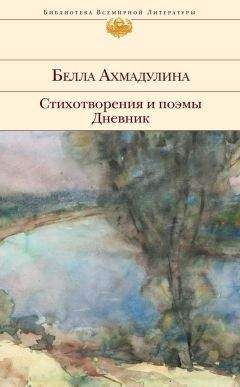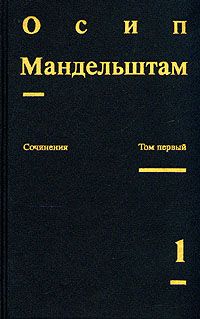«Теперь о тех, чьи детские портреты…»
Теперь о тех, чьи детские портреты
вперяют в нас неукротимый взгляд:
как в рекруты, забритые в поэты,
те стриженые девочки сидят.
У, чудища, в которых всё нечетко!
Указка им – лишь наущенье звезд.
Не верьте им, что кружева и чёлка.
Под чёлкой – лоб. Под кружевами – хвост.
И не хотят, а притворятся ловко.
Простак любви влюбиться норовит.
Грозна, как Дант, а смотрит, как плутовка.
Тать мглы ночной, «мне страшно!» – говорит.
Муж несравненный! Удели ей ада.
Терзай, покинь, всю жизнь себя кори.
Ах, как ты глуп! Ей лишь того и надо:
дай ей страдать – и хлебом не корми!
Твоя измена ей сподручней ласки.
Когда б ты знал, прижав ее к груди:
всё, что ты есть, она предаст огласке
на столько лет, сколь есть их впереди.
Кто жил на белом свете и мужского
был пола, знает, как судьба прочна
в нас по утрам: иссохло в горле слово,
жить надо снова, ибо ночь прошла.
А та, что спит, смыкая пуще веки, —
что ей твой ад, когда она в раю?
Летит, минуя там, в надзвездном верхе,
твой труд, твой долг, твой грех, твою семью.
А всё ж – пора. Стыдясь, озябнув, мучась,
напялит прах вчерашнего пера
и – прочь, одна, в бесхитростную участь
жить, где жила, где жить опять пора.
«Те, о которых речь, совсем иначе
встречают день. В его начальной тьме,
о, их глаза, – как рысий фосфор, зрячи,
и слышно: бьется сильный пульс в уме.
Отважно смотрит! Влюблена в сегодня!
Вчерашний день ей не в науку. Ты —
здесь ни при чем. Ее душа свободна.
Ей весело, что листья так желты.
Ей важно, что тоскует звук о звуке.
Что ты о ней – ей это всё равно.
О му́ке речь. Но в степень этой му́ки
тебе вовек проникнуть не дано.
Ты мучил женщин, ты был смел и волен,
вчера шутил – уже не помнишь с кем.
Отныне будешь, славный муж и воин,
там, где Лаура, Беатриче, Керн.
По октябрю, по болдинской аллее
уходит вдаль, слезы не обронив, —
нежнее женщин и мужчин вольнее,
чтоб заплатить за тех и за других.
1973
Благоволите, сестра и сестра,
дочери Елизавета и Анна,
не шелохнуться! О, как еще рано,
как неподвижен канун волшебства!
Елизавета и Анна, ни-ни,
не понукайте мгновенья, покуда
медленный бег неизбежного чуда
сам не настигнет крыла беготни.
Близится тройки трёхглавая тень,
Пущин минует сугробы и льдины.
Елизавета и Анна, едины
миг предвкушенья и возраст детей.
Смилуйся, немилосердная мать!
Зверь добродушный, пришелец желанный,
сжалься над Елизаветой и Анной,
выкажи вечнозеленую масть.
Елизавета и Анна, скорей!
Всё вам верну, ничего не отнявши.
Грозно-живучее шествие наше
медлит и ждет у закрытых дверей.
Пусть посидит взаперти благодать,
изнемогая и свет исторгая.
Елизавета и Анна, какая
радость – мучительно радости ждать!
Древо взирает на дочь и на дочь.
Надо ль бедой расплатиться за это?
Или же, Анна и Елизавета,
так нам сойдет в новогоднюю ночь?
Жизнь и страданье, и всё это – ей,
той, чьей свечой мы сейчас осиянны.
Кто это?
Елизаветы и Анны
крик: – Это ель! Это ель! Это ель!
1973
«Прохожий, мальчик, что ты? Мимо…»
Прохожий, мальчик, что ты? Мимо
иди и не смотри мне вслед.
Мной тот любим, кем я любима!
К тому же знай: мне много лет.
Зрачков горячую угрюмость
вперять в меня повремени:
то смех любви, сверкнув, как юность,
позолотил черты мои.
Иду… февраль прохладой лечит
жар щёк… и снегу намело
так много… и нескромно блещет
красой любви лицо мое.
1974
«Как никогда, беспечна и добра…»
Как никогда, беспечна и добра,
я вышла в снег арбатского двора,
а там такое было: там светало!
Свет расцветал сиреневым кустом,
и во дворе, недавно столь пустом,
вдруг от детей светло и тесно стало.
Ирландский сеттер, резвый, как огонь,
затылок свой вложил в мою ладонь,
щенки и дети радовались снегу,
в глаза и губы мне попал снежок,
и этот малый случай был смешон,
и всё смеялось и склоняло к смеху.
Как в этот миг любила я Москву.
Я думала: чем дольше я живу,
тем проще разум, тем душа свежее.
Вот снег, вот дворник, вот дитя бежит —
всё есть и воспеванью подлежит,
что может быть разумней и священней?
День жизни, как живое существо,
стоит и ждет участья моего,
и воздух дня мне кажется целебным.
Ах, мало той удачи, что – жила,
я совершенно счастлива была
в том переулке, что зовется Хлебным.
1974
Я вам клянусь: я здесь бывала!
Бежала, позабыв дышать.
Завидев снежного болвана,
вздыхала, замедляла шаг.
Непрочный памятник мгновенью,
снег рукотворный на снегу,
как ты, жива на миг, а верю,
что жар весны превозмогу.
Бесхитростный прилив народа
к витринам – празднество сулил.
Уже Никитские ворота
разверсты были, снег валил.
Какой полёт великолепный,
как сердце бедное неслось
вдоль Мерзляковского – и в Хлебный,
сквозняк – навылет, двор – насквозь.
В жару предчувствия плохого
поступка до скончанья лет —
в подъезд, где ветхий лак плафона
так трогателен и нелеп.
Как опрометчиво, как пылко
я в дом влюбилась! Этот дом
набит, как детская копилка,
судьбой людей, добром и злом.
Его жильцов разнообразных,
которым не было числа,
подвыпивших, поскольку праздник,
я близко к сердцу приняла.
Какой разгадки разум жаждал,
подглядывая с добротой
неистовую жизнь сограждан,
их сложный смысл, их быт простой?
Пока таинственная бытность
моя в том доме длилась, я
его старухам полюбилась
по милости житья-бытья.
В печальном лифте престарелом
мы поднимались, говоря
о том, как тяжко старым телом
терпеть погоду декабря.
В том декабре и в том пространстве
душа моя отвергла зло,
и все казались мне прекрасны,
и быть иначе не могло.
Любовь к любимому есть нежность
ко всем вблизи и вдалеке.
Пульсировала бесконечность
в груди, в запястье и в виске.
Я шла, ущелья коридоров
меня заманивали в глубь
чужих печалей, свадеб, вздоров,
в плач кошек, в лепет детских губ.
Мне – выше, мне – туда, где должен
пришелец взмыть под крайний свод,
где я была, где жил художник,
где ныне я, где он живет.
Его диковинные вещи
воспитаны, как существа.
Глаголет их немое вече
о чистой тайне волшебства.
Тот, кто собрал их воедино,
был не корыстен, не богат.
Возвышенная вещь родима
душе, как верный пёс иль брат.
Со свалки времени былого
возвращены и спасены,
они печально и беззлобно
глядят на спешку новизны.
О, для раската громового
так широко открыт раструб.
Четыре вещих граммофона
во тьме причудливо растут.
Я им родня, я погибаю
от нежности, когда вхожу,
я так же шею выгибаю,
я так же голову держу.
Я, как они, витиевата,
и горла обнажен проём.
Звук незапамятного вальса
сохранен в голосе моём.
Не их ли зов меня окликнул
и не они ль меня влекли
очнуться в грозном и великом
недоумении любви?
Как добр, кто любит, как огромен,
как зряч к значенью красоты!
Мой город, словно новый город,
мне предъявил свои черты.
Смуглей великого арапа
восходит ночь. За что мне честь —
в окно увидеть два Арбата:
и тот, что был, и тот, что есть?
Лиловой гроздью виснет сумрак.
Вот стул – капризник и чудак.
Художник мой портрет рисует
и смотрит остро, как чужак.
Уже считая катастрофой
уют, столь полный и смешной,
ямб примеряю пятистопный
к лицу, что так любимо мной.
Я знаю истину простую:
любить – вот верный путь к тому,
чтоб человечество вплотную
приблизить к сердцу и уму.
Всегда быть не хитрей, чем дети,
не злей, чем дерево в саду,
благословляя жизнь на свете
заботливей, чем жизнь свою.
Так я жила былой зимою.
Ночь разрасталась, как сирень,
и всё играла надо мною
печали сильная свирель.
Был дом на берегу бульвара.
Не только был, но ныне есть.
Зачем твержу: я здесь бывала,
а не твержу: я ныне здесь?
Еще жива, еще любима,
всё это мне сейчас дано,
а кажется, что это было
и кончилось давным-давно…
1974
«Потом я вспомню, что была жива…»