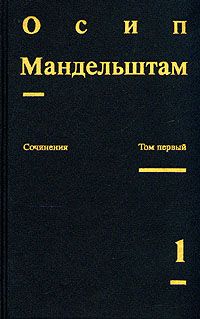3. «О, бабочка, о, мусульманка…»
О, бабочка, о, мусульманка,
В разрезанном саване вся –
Жизняночка и умиранка,
Такая большая – сия!
С большими усами кусава
Ушла с головою в бурнус.
О флагом развернутый саван,
Сложи свои крылья – боюсь!
Ноябрь 1933 – январь 1934
4. «Шестого чувства крошечный придаток…»
Шестого чувства крошечный придаток
Иль ящерицы теменной глазок,
Монастыри улиток и створчаток,
Мерцающих ресничек говорок.
Недостижимое, как это близко:
Ни развязать нельзя, ни посмотреть,
Как будто в руку вложена записка –
И на нее немедленно ответь…
Май 1932 – февраль 1934
5. «Преодолев затверженность природы…»
Преодолев затверженность природы,
Голуботвердый глаз проник в ее закон:
В земной коре юродствуют породы
И, как руда, из груди рвется стон.
И тянется глухой недоразвиток
Как бы дорогой, согнутою в рог, –
Понять пространства внутренний избыток,
И лепестка, и купола залог.
Январь – февраль 1934
6. «Когда, уничтожив набросок…»
Когда, уничтожив набросок,
Ты держишь прилежно в уме
Период без тягостных сносок,
Единый во внутренней тьме,
И он лишь на собственной тяге,
Зажмурившись, держится сам,
Он так же отнесся к бумаге,
Как купол к пустым небесам.
Ноябрь 1933 – январь 1934
7. «И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме…»
И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме,
И Гете, свищущий на вьющейся тропе,
И Гамлет, мысливший пугливыми шагами,
Считали пульс толпы и верили толпе.
Быть может, прежде губ уже родился шепот,
И в бездревесности кружилися листы,
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты.
Ноябрь 1933 – январь 1934
8. «И клена зубчатая лапа…»
И клена зубчатая лапа
Купается в круглых углах,
И можно из бабочек крапа
Рисунки слагать на стенах.
Бывают мечети живые –
И я догадался сейчас:
Быть может, мы – Айя-София
С бесчисленным множеством глаз.
Ноябрь 1933 – январь 1934
9. «Скажи мне, чертежник пустыни…»
Скажи мне, чертежник пустыни,
Арабских песков геометр,
Ужели безудержность линий
Сильнее, чем дующий ветр?
– Меня не касается трепет
Его иудейских забот –
Он опыт из лепета лепит
И лепет из опыта пьет.
Ноябрь 1933 – январь 1934
10. «В игольчатых чумных бокалах…»
В игольчатых чумных бокалах
Мы пьем наважденье причин,
Касаемся крючьями малых,
Как легкая смерть, величин.
И там, где сцепились бирюльки,
Ребенок молчанье хранит –
Большая вселенная в люльке
У маленькой вечности спит.
Ноябрь 1933, июль 1935
11. «И я выхожу из пространства»
И я выхожу из пространства
В запущенный сад величин
И мнимое рву постоянство
И самосогласье причин.
И твой, бесконечность, учебник
Читаю один, без людей –
Безлиственный, дикий лечебник,
Задачник огромных корней.
Ноябрь 1933 – июль 1935
I. «Речка, распухшая от слез соленых…»
Valle che de’lamenti miei se’ piena…
Petrarca[4]
Речка, распухшая от слез соленых,
Лесные птахи рассказать могли бы,
Чуткие звери и немые рыбы,
В двух берегах зажатые зеленых;
Дол, полный клятв и шепотов каленых,
Тропинок промуравленных изгибы,
Силой любви затверженные глыбы
И трещины земли на трудных склонах:
Незыблемое зыблется на месте,
И зыблюсь я… Как бы внутри гранита
Зернится скорбь в гнезде былых веселий,
Где я ищу следов красы и чести,
Исчезнувшей, как сокол после мыта,
Оставив тело в земляной постели.
Декабрь 1933 – январь 1934
II. «Как соловей, сиротствующий, славит…»
Quel rosignuol, che si soave piagne…
Petrarca[5]
Как соловей, сиротствующий, славит
Своих пернатых близких, ночью синей,
И деревенское молчанье плавит
По-над холмами или в котловине,
И всю-то ночь щекочет и муравит
И провожает он, один отныне, –
Меня, меня! Силки и сети ставит
И нудит помнить смертный пот богини!
О, радужная оболочка страха! –
Эфир очей, глядевших в глубь эфира,
Взяла земля в слепую люльку праха –
Исполнилось твое желанье, пряха,
И, плачучи, твержу: вся прелесть мира
Ресничного недолговечней взмаха.
Декабрь 1933 – январь 1934
III. «Когда уснет земля и жар отпышет…»
Or che’l ciel et la terra e’l vento tace…
Petrarca[6]
Когда уснет земля и жар отпышет,
И на душе зверей покой лебяжий,
Ходит по кругу ночь с горящей пряжей
И мощь воды морской зефир колышет, –
Чую, горю, рвусь, плачу – и не слышит,
В неудержимой близости всё та же:
Целую ночь, целую ночь на страже
И вся как есть далеким счастьем дышит.
Хоть ключ один – вода разноречива:
Полужестока, полусладка. Ужели
Одна и та же милая двулична?
Тысячу раз на дню, себе на диво,
Я должен умереть на самом деле,
И воскресаю так же сверхобычно.
Декабрь 1933 – январь 1934
IV. «Промчались дни мои – как бы оленей…»
I di miei più leggier’ che nessun cervo…
Petrarca[7]
Промчались дни мои – как бы оленей
Косящий бег. Срок счастья был короче,
Чем взмах ресницы. Из последней мочи
Я в горсть зажал лишь пепел наслаждений.
По милости надменных обольщений
Ночует сердце в склепе скромной ночи,
К земле бескостной жмется. Средоточий
Знакомых ищет, сладостных сплетений.
Но то, что в ней едва существовало, –
Днесь, вырвавшись наверх, в очаг лазури,
Пленять и ранить может, как бывало.
И я догадываюсь, брови хмуря, –
Как хороша – к какой толпе пристала –
Как там клубится легких складок буря…
4–8 января 1934
«Как из одной высокогорной щели…»
Как из одной высокогорной щели
Течет вода – на вкус разноречива –
Полужестка, полусладка, двулична, –
Так, чтобы умереть на самом деле,
Тысячу раз на дню лишусь обычной
Свободы вздоха и сознанья цели…
«Голубые глаза и горячая лобная кость…»
Голубые глаза и горячая лобная кость –
Мировая манила тебя молодящая злость.
И за то, что тебе суждена была чудная власть,
Положили тебя никогда не судить и не клясть.
На тебя надевали тиару – юрода колпак,
Бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак!
Как снежок, на Москве заводил кавардак гоголек, –
Непонятен-понятен, невнятен, запутан, лего́к…
Собиратель пространства, экзамены сдавший птенец,
Сочинитель, щегленок, студентик, студент, бубенец.
Конькобежец и первенец, веком гонимый взашей
Под морозную пыль образуемых вновь падежей.
Часто пишется – казнь, а читается правильно – песнь.
Может быть, простота – уязвимая смертью болезнь?
Прямизна нашей мысли не только пугач для детей?
Не бумажные дести, а вести спасают людей.
Как стрекозы садятся, не чуя воды, в камыши,
Налетели на мертвого жирные карандаши.
На коленях держали для славных потомков листы,
Рисовали, просили прощенья у каждой черты.
Меж тобой и страной ледяная рождается связь –
Так лежи, молодей и лежи, бесконечно прямясь.
Да не спросят тебя молодые, грядущие – те,
Каково тебе там – в пустоте, в чистоте-сироте…
10–11 января 1934
1. «Меня преследуют две-три случайных фразы…»
Меня преследуют две-три случайных фразы,
Весь день твержу: печаль моя жирна…
О Боже, как жирны и синеглазы
Стрекозы смерти, как лазурь черна.
Где первородство? Где счастливая повадка?
Где плавкий ястребок на самом дне очей?
Где вежество? Где горькая украдка?
Где ясный стан? Где прямизна речей, –
Запутанных, как честные зигзаги
У конькобежца в пламень голубой, –
Морозный пух в железной крутят тяге,
С голуботвердой чокаясь рекой?
Ему пространств инакомерных норы,
Их, близких, их, союзных, голоса,
Их, внутренних, ристалищные споры
Представились в полвека, в полчаса.
И вдруг открылась музыка в засаде,
Уже не хищницей лиясь из-под смычков,
Не ради слуха или неги ради –
Лиясь для мышц и бьющихся висков, –
Лиясь для ласковой, только что снятой маски,
Для пальцев гипсовых, не держащих пера,
Для укрупненных губ, для укрепленной ласки
Крупнозернистого покоя и добра…
Дышали шуб меха, плечо к плечу теснилось,
Кипела киноварь здоровья, кровь и пот –
Сон в оболочке сна, внутри которой снилось
На полшага продвинуться вперед.
А посреди толпы стоял гравировальщик,
Готовясь перенесть на истинную медь
То, что обугливший бумагу рисовальщик
Лишь крохоборствуя успел запечатлеть.
Как будто я повис на собственных ресницах,
И, созревающий, и тянущийся весь, –
Доколе не сорвусь – разыгрываю в лицах
Единственное, что мы знаем днесь!..
16 января 1934
2. «Когда душе и то́ропкой и робкой…»